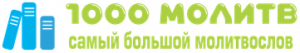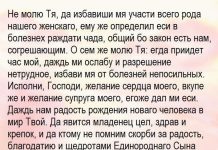Детально: иоанн дамаскин толстой - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.
Любим калифом Иоанн;
Ему, что день, почет и ласка,
К делам правления призван
Лишь он один из христиан
Порабощенного Дамаска.
Его поставил властелин
И суд рядить, и править градом,
Он с ним беседует один,
Он с ним сидит в совете рядом;
Окружены его дворцы
Благоуханными садами,
Лазурью блещут изразцы,
Убраны стены янтарями;
В полдневный зной приют и тень
Дают навесы, шелком тканы,
В узорных банях ночь и день
Шумят студеные фонтаны.
Но от него бежит покой,
Он бродит сумрачен; не той
Он прежде мнил идти дорогой,
Он счастлив был бы и убогий,
Когда б он мог в тиши лесной,
В глухой степи, в уединенье,
Двора волнение забыть
И жизнь смиренно посвятить
Труду, молитве, песнопенью.
И раздавался уж не раз
Его красноречивый глас
Противу ереси безумной,
Что на искусство поднялась
Грозой неистовой и шумной.
Упорно с ней боролся он,
И от Дамаска до Царьграда
Был, как боец за честь икон
И как художества ограда,
Давно известен и почтен.
Но шум и блеск его тревожит,
Ужиться с ними он не может,
И, тяжкой думой обуян,
Тоска в душе и скорбь на лике,
Вошел правитель Иоанн
В чертог дамасского владыки.
«О государь, внемли! мой сан,
Величье, пышность, власть и сила,
Все мне несносно, все постыло.
Иным призванием влеком,
Я не могу народом править:
Простым рожден я быть певцом,
Глаголом вольным Бога славить!
В толпе вельмож всегда один,
Мученья полон я и скуки;
Среди пиров, в главе дружин,
Иные слышатся мне звуки;
Неодолимый их призыв
К себе влечет меня все боле —
О, отпусти меня, калиф,
Дозволь дышать и петь на воле!»
И тот просящему в ответ:
«Возвеселись, мой раб любимый!
Печали вечной в мире нет
И нет тоски неизлечимой!
Твоею мудростью одной
Кругом Дамаск могуч и славен.
Кто ныне нам величьем равен?
И кто дерзнет на нас войной?
А я возвышу жребий твой —
Недаром я окрест державен —
Ты примешь чести торжество,
Ты будешь мне мой брат единый:
Возьми полцарства моего,
Лишь правь другою половиной!»
К нему певец: «Твой щедрый дар,
О государь, певцу не нужен;
С иною силою он дружен;
В его груди пылает жар,
Которым зиждется созданье;
Служить творцу его призванье;
Его души незримый мир
Престолов выше и порфир.
Он не изменит, не обманет;
Все, что других влечет и манит:
Богатство, сила, слава, честь —
Все в мире том в избытке есть;
А все сокровища природы:
Степей безбережный простор,
Туманный очерк дальних гор
И моря пенистые воды,
Земля, и солнце, и луна,
И всех созвездий хороводы,
И синей тверди глубина —
То всe одно лишь отраженье,
Лишь тень таинственных красот,
Которых вечное виденье
В душе избранника живет!
О, верь, ничем тот не подкупен,
Кому сей чудный мир доступен,
Кому Господь дозволил взгляд
В то сокровенное горнило,
Где первообразы кипят,
Трепещут творческие силы!
То их торжественный прилив
Звучит певцу в его глаголе —
О, отпусти меня, калиф,
Дозволь дышать и петь на воле!»
И рек калиф: «В твоей груди
Не властен я сдержать желанье,
Певец, свободен ты, иди,
Куда влечет тебя призванье!»
И вот правителя дворцы
Добычей сделались забвенья;
Оделись пестрые зубцы
Травой и прахом запустенья;
Его несчетная казна
Давно уж нищим раздана,
Усердных слуг не видно боле,
Рабы отпущены на волю,
И не укажет ни один,
Куда их скрылся господин.
В хоромах стены и картины
Давно затканы паутиной,
И мхом фонтаны заросли;
Плющи, ползущие по хорам,
От самых сводов до земли
Зеленым падают узором,
И мак спокойно полевой
Растет кругом на звонких плитах,
И ветер, шелестя травой,
В чертогах ходит позабытых.
Благословляю вас, леса,
Долины, нивы, горы, воды!
Благословляю я свободу
И голубые небеса!
И посох мой благословляю,
И эту бедную суму,
И степь от краю и до краю,
И солнца свет, и ночи тьму,
И одинокую тропинку,
По коей, нищий, я иду,
И в поле каждую былинку,
И в небе каждую звезду!
О, если б мог всю жизнь смешать я,
Всю душу вместе с вами слить!
О, если б мог в свои объятья
Я вас, враги, друзья и братья,
И всю природу заключить!
Как горней бури приближенье,
Как натиск пенящихся вод,
Теперь в груди моей растет
Святая сила вдохновенья.
Уж на устах дрожит хвала
Всему, что благо и достойно,-
Какие ж мне воспеть дела?
Какие битвы или войны?
Где я для дара моего
Найду высокую задачу?
Чье передам я торжество
Иль чье падение оплачу?
Блажен, кто рядом славных дел
Свой век украсил быстротечный;
Блажен, кто жизнию умел
Хоть раз коснуться правды вечной;
Блажен, кто истину искал,
И тот, кто, побежденный, пал
В толпе ничтожной и холодной,
Как жертва мысли благородной!
Но не для них моя хвала,
Не им восторга излиянья!
Мечта для песен избрала
Не их высокие деянья!
И не в венце сияет он,
К кому душа моя стремится;
Не блеском славы окружен,
Не на звенящей колеснице
Стоит он, гордый сын побед;
Не в торжестве величья – нет,-
Я зрю его передо мною
С толпою бедных рыбаков;
Он тихо, мирною стезею,
Идет меж зреющих хлебов;
Благих речей своих отраду
В сердца простые он лиет,
Он правды алчущее стадо
К ее источнику ведет.
Зачем не в то рожден я время,
Когда меж нами, во плоти,
Неся мучительное бремя,
Он шел на жизненном пути!
Зачем я не могу нести,
О мой Господь, твои оковы,
Твоим страданием страдать,
И крест на плечи твой приять,
И на главу венец терновый!
О, если б мог я лобызать
Лишь край святой твоей одежды,
Лишь пыльный след твоих шагов,
О мой Господь, моя надежда,
Моя и сила и покров!
Тебе хочу я все мышленья,
Тебе всех песней благодать,
И думы дня, и ночи бденья,
И сердца каждое биенье,
И душу всю мою отдать!
Не отверзайтесь для другого
Отныне, вещие уста!
Греми лишь именем Христа,
Мое восторженное слово!
Часы бегут. Ночная тень
Не раз сменяла зной палящий,
Не раз, всходя, лазурный день
Свивал покров с природы спящей;
И перед странником вдали
И волновались и росли
Разнообразные картины:
Белели снежные вершины
Над лесом кедровым густым,
Иордан сверкал в степном просторе,
И Мертвое чернело море,
Сливаясь с небом голубым.
И вот, виясь в степи широкой,
Чертой изогнутой легло
Пред ним Кедронского потока
Давно безводное русло.
Смеркалось. Пар струился синий;
Кругом царила тишина;
Мерцали звезды; над пустыней
Всходила медленно луна.
Брегов сожженные стремнины
На дно сбегают крутизной,
Спирая узкую долину
Двойной отвесною стеной.
Внизу кресты, символы веры,
Стоят в обрывах здесь и там,
И видны странника очам
В утесах рытые пещеры.
Сюда со всех концов земли,
Бежав мирского треволненья,
Отцы святые притекли
Искать покоя и спасенья.
С краев до высохшего дна,
Где спуск крутой ведет в долину,
Руками их возведена
Из камней крепкая стена,
Отпор степному сарацину.
В стене ворота. Тесный вход
Над ними башня стережет.
Тропинка вьется над оврагом,
И вот, спускаясь по скалам,
При свете звезд, усталым шагом
Подходит странник к воротам.
«Тебя, безбурное жилище,
Тебя, познания купель,
Житейских помыслов кладбище
И новой жизни колыбель,
Тебя приветствую, пустыня,
К тебе стремился я всегда!
Будь мне убежищем отныне,
Приютом песен и труда!
Все попечения мирские
Сложив с себя у этих врат,
Приносит вам, отцы святые,
Свой дар и гусли новый брат!»
«Отшельники Кедронского потока,
Игумен вас сзывает на совет!
Сбирайтесь все: пришедший издалека
Вам новый брат приносит свой привет!
Велики в нем и вера и призванье,
Но должен он пройти чрез испытанье.
Из вас его вручаю одному:
Он тот певец, меж всеми знаменитый,
Что разогнал иконоборства тьму,
Чьим словом ложь попрана и разбита,
То Иоанн, святых икон защита —
Кто хочет быть наставником ему?»
И лишь назвал игумен это имя,
Заволновался весь монахов ряд,
И на певца дивятся и глядят,
И пробегает шепот между ними.
Главами все поникнувши седыми,
С смирением игумну говорят:
«Благословен сей славный божий воин,
Благословен меж нас его приход,
Но кто же здесь учить того достоин,
Кто правды свет вокруг себя лиeт?
Чье слово нам как колокол звучало —
Tого ль приять дерзнем мы под начало?»
Тут из толпы один выходит брат;
То черноризец был на вид суровый,
И строг его пытующий был взгляд,
И строгое певцу он молвил слово:
«Держать посты уставы нам велят,
Служенья ж мы не ведаем иного!-
Коль под моим началом хочешь быть,
Тебе согласен дать я наставленье,
Но должен ты отныне отложить
Ненужных дум бесплодное броженье;
Дух праздности и прелесть песнопенья
Постом, певец, ты должен победить!
Коль ты пришел отшельником в пустыню,
Умей мечты житейские попрать,
И на уста, смирив свою гордыню,
Ты наложи молчания печать!
Исполни дух молитвой и печалью —
Вот мой устав тебе в новоначалье».
Замолк монах. Нежданный приговор
Как гром упал средь мирного синклита.
Смутились все. Певца померкнул взор,
Покрыла бледность впалые ланиты.
И неподвижен долго он стоял,
Безмолвно опустив на землю очи,
Как будто бы ответа он искал,
Но отвечать недоставало мочи.
И начал он: «Моих всю бодрость сил,
И мысли все, и все мои стремленья —
Одной я только цели посвятил:
Хвалить творца и славить в песнопенье.
Но ты велишь скорбеть мне и молчать —
Твоей, отец, я повинуюсь воле:
Весельем сердце не взыграет боле,
Уста сомкнет молчания печать.
Так вот где ты таилось, отреченье,
Что я не раз в молитвах обещал!
Моей отрадой было песнопенье,
И в жертву Ты, Господь, его избрал!
Настаньте ж, дни молчания и муки!
Прости, мой дар! Ложись на гусли, прах!
А вы, в груди взлелеянные звуки,
Замрите все на трепетных устах!
Спустися, ночь, на горестного брата
И тьмой его от солнца отлучи!
Померкните, затмитесь без возврата,
Моих псалмов звенящие лучи!
Погибни, жизнь! Погасни, огнь алтарный!
Уймись во мне, взволнованная кровь!
Свети лишь ты, небесная любовь,
В моей ночи звездою лучезарной!
О мой Господь! Прости последний стон
Последний сердца страждущего ропот!
Единый миг – замрет и этот шепот,
И встану я, тобою возрожден!
Свершилось. Мрака набегают волны.
Взор гаснет. Стынет кровь. Всему конец!
Из мира звуков ныне в мир безмолвный
Нисходит к вам развенчанный певец!»
В глубоком ущелье,
Как гнезда стрижей,
По желтым обрывам темнеют пустынные кельи,
Но речи не слышно ничьей;
Все тихо, пока не сберется к служенью
Отшельников рой;
И вторит тогда их обрядному пенью
Один отголосок глухой.
А там, над краями долины,
Безлюдной пустыни царит торжество,
И пальмы не видно нигде ни единой,
Все пусто кругом и мертво.
Как жгучее бремя,
Так небо усталую землю гнетет,
И кажется, будто бы время
Свой медленный звучно свершает над нею полет.
Порой отдаленное слышно рычанье
Голодного льва;
И снова наступит молчанье,
И снова шумит лишь сухая трава,
Когда из-под камней змея выползая
Блеснет чешуей;
Крилами треща, саранча полевая
Взлетит иногда. Иль случится порой,
Пустыня проснется от дикого клика,
Посыпятся камни, и там, в вышине,
Дрожа и колеблясь, мохнатая пика
Покажется в небе. На легком коне
Появится всадник; над самым оврагом
Сдержав скакуна запененного лет,
Проедет он мимо обители шагом
Да инокам сверху проклятье пошлет.
И снова все стихнет. Лишь в полдень орлицы
На крыльях недвижных парят,
Да вечером звезды горят,
И скучною тянутся длинные дни вереницей.
Порою в тверди голубой
Проходят тучи над долиной;
Они картину за картиной,
Плывя, свивают меж собой.
Так, в нескончаемом движенье,
Клубится предо мной всегда
Воспоминаний череда,
Погибшей жизни отраженья;
И льнут, и вьются без конца,
И вечно волю осаждают,
И онемевшего певца,
Ласкаясь, к песням призывают.
И казнью стал мне праздный дар,
Всегда готовый к пробужденью;
Так ждет лишь ветра дуновенья
Под пеплом тлеющий пожар —
Перед моим тревожным духом
Теснятся образы толпой,
И, в тишине, над чутким ухом
Дрожит созвучий мерный строй;
И я, не смея святотатно
Их вызвать в жизнь из царства тьмы,
В хаоса ночь гоню обратно
Мои непетые псалмы.
Но тщетно я, в бесплодной битве,
Твержу уставные слова
И заученные молитвы —
Душа берет свои права!
Увы, под этой ризой черной,
Как в оны дни под багрецом,
Живым палимое огнем,
Мятется сердце непокорно!
Юдоль, где я похоронил
Броженье деятельных сил,
Свободу творческого слова —
Юдоль молчанья рокового!
О, передай душе моей
Твоих стремнин покой угрюмый!
Пустынный ветер, о развей
Мои недремлющие думы!
Tщетно он просит и ждет от безмолвной юдоли покоя,
Ветер пустынный не может недремлющей думы развеять.
Годы проходят один за другим, все бесплодные годы!
Все тяжелее над ним тяготит роковое молчанье.
Так он однажды сидел у входа пещеры, рукою
Грустные очи закрыв и внутренним звукам внимая.
К скорбному тут к нему подошел один черноризец,
Пал на колени пред ним и сказал: «Помоги, Иоанне!
Брат мой по плоти преставился; братом он был по душе
мне!
Tяжкая горесть снедает меня; я плакать хотел бы —
Слезы не льются из глаз, но скипаются в горестном
сердце.
Ты же мне можешь помочь: напиши лишь умильную
песню,
Песнь погребальную милому брату, ее чтобы слыша,
Мог я рыдать, и тоска бы моя получила ослабу!»
Кротко взглянул Иоанн и печально в ответ ему молвил:
«Или не ведаешь ты, каким я связан уставом?
Строгое старец на песни мои наложил запрещенье!»
Тот же стал паки его умолять, говоря: «Не узнает
Старец о том никогда; он отсель отлучился на три дня,
Брата ж мы завтра хороним; молю тебя всею душою,
Дай утешение мне в беспредельно горькой печали!»
Паки ж отказ получив: «Иоанне!- сказал черноризец,-
Если бы был ты телесным врачом, а я б от недуга
Так умирал, как теперь умираю от горя и скорби,
Ты ли бы в помощи мне отказал? И не дашь ли ответа
Господу Богу о мне, если ныне умру безутешен?»
Так говоря, колебал в Дамаскине он мягкое сердце.
Собственной полон печали, певец дал жалости место;
Черною тучей тогда на него низошло вдохновенье,
Образы мрачной явились толпой, и в воздухе звуки
Стали надгробное мерно гласить над усопшим рыданье.
Слушал певец, наклонивши главу, то незримое пенье,
Долго слушал, и встал, и, с молитвой вошедши в пещеру,
Там послушной рукой начертал, что ему прозвучало.
Так был нарушен устав, так прервано было молчанье.
Над вольной мыслью Богу неугодны
Насилие и гнет:
Она, в душе рожденная свободно,
В оковах не умрет!
Ужели вправду мнил ты, близорукий,
Сковать свои мечты?
Ужель попрать в себе живые звуки
Насильно думал ты?
С Ливанских гор, где в высоте лазурной
Белеет дальний снег,
В простор степей стремяся, ветер бурный
Удержит ли свой бег?
И потекут ли вспять струи потока,
Что между скал гремят?
И солнце там, поднявшись от востока,
Вернется ли назад?
Колоколов унылый звон
С утра долину оглашает.
Покойник в церковь принесен;
Обряд печальный похорон
Собор отшельников свершает.
Свечами светится алтарь,
Стоит певец с поникшим взором,
Поет напутственный тропарь,
Ему монахи вторят хором:
Тропарь
«Какая сладость в жизни сей
Земной печали непричастна?
Чье ожиданье не напрасно?
И где счастливый меж людей?
Все то превратно, все ничтожно,
Что мы с трудом приобрели,-
Какая слава на земли
Стоит тверда и непреложна?
Все пепел, призрак, тень и дым,
Исчезнет все как вихорь пыльный,
И перед смертью мы стоим
И безоружны и бессильны.
Рука могучего слаба,
Ничтожны царские веленья —
Прими усопшего раба,
Господь, в блаженные селенья!
Как ярый витязь смерть нашла,
Меня как хищник низложила,
Свой зев разинула могила
И все житейское взяла.
Спасайтесь, сродники и чада,
Из гроба к вам взываю я,
Спасайтесь, братья и друзья,
Да не узрите пламень ада!
Вся жизнь есть царство суеты,
И, дуновенье смерти чуя,
Мы увядаем, как цветы,-
Почто же мы мятемся всуе?
Престолы наши суть гроба,
Чертоги наши – разрушенье,-
Прими усопшего раба,
Господь, в блаженные селенья!
Средь груды тлеющих костей
Кто царь? кто раб? судья иль воин?
Кто царства божия достоин?
И кто отверженный злодей?
О братья, где сребро и злато?
Где сонмы многие рабов?
Среди неведомых гробов
Кто есть убогий, кто богатый?
Все пепел, дым, и пыль, и прах,
Все призрак, тень и привиденье —
Лишь у тебя на небесах,
Господь, и пристань и спасенье!
Исчезнет все, что было плоть,
Величье наше будет тленье —
Прими усопшего, Господь,
В твои блаженные селенья!
И ты, предстательница всем!
И ты, заступница скорбящим!
К тебе о брате, здесь лежащем,
К тебе, святая, вопием!
Моли божественного сына,
Его, пречистая, моли,
Дабы отживший на земли
Оставил здесь свои кручины!
Все пепел, прах, и дым, и тень!
О други, призраку не верьте!
Когда дохнет в нежданный день
Дыханье тлительное смерти,
Мы все поляжем, как хлеба,
Серпом подрезанные в нивах,-
Прими усопшего раба,
Господь, в селениях счастливых!
Иду в незнаемый я путь,
Иду меж страха и надежды;
Мой взор угас, остыла грудь,
Не внемлет слух, сомкнуты вежды;
Лежу безгласен, недвижим,
Не слышу братского рыданья,
И от кадила синий дым
Не мне струит благоуханье;
Но вечным сном пока я сплю,
Моя любовь не умирает,
И ею, братья, вас молю,
Да каждый к Господу взывает:
Господь! В тот день, когда труба
Вострубит мира преставленье,-
Прими усопшего раба
В твои блаженные селенья!»
Так он с монахами поет.
Но вот меж ними, гость нежданный,
Нахмуря брови, предстает
Наставник старый Иоанна.
Суровы строгие черты,
Главу подъемля величаво:
«Певец,- он молвит,- так ли ты
Блюдешь и чтишь мои уставы?
Когда пред нами братний прах,
Не петь, но плакать нам пристойно!
Изыди, инок недостойный,-
Не в наших жить тебе стенах!»
И, гневной речью пораженный,
Виновный пал к его ногам:
«Прости, отец! не знаю сам,
Как преступил твои законы!
Во мне звучал немолчный глас,
В неодолимой сердца муке
Невольно вырвалися звуки,
Невольно песня полилась!»
И ноги старца он объемлет:
«Прости вину мою, отец!»
Но тот раскаянью не внемлет,
Он говорит: «Беги, певец!
Досель житейская гордыня
Еще жива в твоей груди «
От наших келий отойди,
Не оскверняй собой пустыни!»
Прошла по лавре роковая весть,
Отшельников смутилося собранье:
«Наш Иоанн, Христовой церкви честь,
Наставника навлек негодованье!
Ужель ему придется перенесть,
Ему, певцу, позорное изгнанье?»
И жалостью исполнились сердца,
И все собором молят за певца.
Но, словно столб, наставник непреклонен,
И так в ответ просящим молвит он:
«Устав, что мной однажды узаконен,
Не будет даром ныне отменен.
Кто к гордости и к ослушанью склонен,
Того как терн мы вырываем вон.
Но если в нем неложны сожаленья,
Эпитимьей он выкупит прощенье:
Пусть он обходит лавры черный двор,
С лопатою обходит и с метлою;
Свой дух смирив, пусть всюду грязь и сор
Он непокорной выметет рукою.
Дотоль над ним мой крепок приговор,
И нет ему прощенья предо мною!»
Замолк. И, вняв безжалостный отказ,
Вся братия в печали разошлась.
________
Презренье, други, на певца,
Что дар священный унижает,
Что пред кумирами склоняет
Красу лаврового венца!
Что гласу истины и чести
Внушенье выгод предпочел,
Что угождению и лести
Бесстыдно продал свой глагол!
Из века в век звучать готово,
Ему на казнь и на позор,
Его бессовестное слово,
Как всенародный приговор.
Но ты, иной взалкавший пищи,
Ты, что молитвою влеком,
Высокий сердцем, духом нищий,
Живущий мыслью со Христом,
Ты, что пророческого взора
Пред блеском мира не склонял,-
Испить ты можешь без укора
Весь унижения фиал!
И старца речь дошла до Дамаскина.
Эпитимьи условия узнав,
Певец спешит свои загладить вины,
Спешит почтить неслыханный устав.
Сменила радость горькую кручину:
Без ропота лопату в руки взяв,
Певец Христа не мыслит о пощаде,
Но униженье терпит Бога ради.
________
Тот, кто с вечною любовию
Воздавал за зло добром —
Избиен, покрытый кровию,
Венчан терновым венцом —
Всех, с собой страданьем сближенных,
В жизни долею обиженных,
Угнетенных и униженных,
Осенил своим крестом.
Вы, чьи лучшие стремления
Даром гибнут под ярмом,
Верьте, други, в избавление —
К божью cвету мы грядем!
Вы, кручиною согбенные,
Вы, цепями удрученные,
Вы, Христу сопогребенные,
Совоскреснете с Христом!
Темнеет. Пар струится синий;
В ущелье мрак и тишина;
Мерцают звезды; и луна
Восходит тихо над пустыней.
В свою пещеру одинок
Ушел отшельник раздраженный.
Все спит. Луной посеребренный,
Иссякший видится поток.
Над ним скалистые вершины
Из мрака смотрят там и тут;
Но сердце старца не влекут
Природы мирные картины;
Оно для жизни умерло.
Согнувши строгое чело,
Он, чуждый миру, чуждый братьям,
Лежит, простерт перед распятьем.
В пыли седая голова,
И смерть к себе он призывает,
И шепчет мрачные слова,
И камнем в перси ударяет.
И долго он поклоны клал,
И долго смерть он призывал,
И наконец, в изнеможенье,
Безгласен, наземь он упал,
И старцу видится виденье:
Разверзся вдруг утесов свод,
И разлилось благоуханье,
И от невидимых высот
В пещеру падает сиянье.
И в трепетных его лучах,
Одеждой звездною блистая,
Явилась дева пресвятая
С младенцем спящим на руках.
Из света чудного слиянный,
Ее небесно-кроток вид.
«Почто ты гонишь Иоанна?-
Она монаху говорит.-
Его молитвенные звуки,
Как голос неба на земли,
В сердца послушные текли,
Врачуя горести и муки.
Почто ж ты, старец, заградил
Нещадно тот источник сильный,
Который мир бы напоил
Водой целебной и обильной?
На то ли жизни благодать
Господь послал своим созданьям,
Чтоб им бесплодным истязаньем
Себя казнить и убивать?
Он дал природе изобилье,
И бег струящимся рекам,
Он дал движенье облакам,
Земле цветы и птицам крылья.
Почто ж певца живую речь
Сковал ты заповедью трудной?
Оставь его глаголу течь
Рекой певучей неоскудно!
Да оросят его мечты,
Как дождь, житейскую долину;
Оставь земле ее цветы,
Оставь созвучья Дамаскину!»
Виденье скрылось в облаках,
Заря восходит из тумана…
Встает встревоженный монах,
Зовет и ищет Иоанна —
И вот обнял его старик:
«О сын смирения Христова!
Тебя душою я постиг —
Отныне петь ты можешь снова!
Отверзи вещие уста,
Твои окончены гоненья!
Во имя Господа Христа,
Певец, святые вдохновенья
Из сердца звучного излей,
Меня ж, молю, прости, о чадо,
Что слову вольному преградой
Я был по грубости моей!»
Воспой же, страдалец, воскресную песнь!
Возрадуйся жизнию новой!
Исчезла коснения долгая плеснь,
Воскресло свободное слово!
Того, кто оковы души сокрушил,
Да славит немолчно созданье!
Да хвалят торжественно Господа сил
И солнце, и месяц, и хоры светил,
И всякое в мире дыханье!
Блажен, кому ныне, Господь, пред тобой
И мыслить и молвить возможно!
С бестрепетным сердцем и с теплой мольбой
Во имя твое он выходит на бой
Со всем, что неправо и ложно!
Раздайся ж, воскресная песня моя!
Как солнце взойди над землею!
Расторгни убийственный сон бытия
И, свет лучезарный повсюду лия,
Громи, что созиждено тьмою!
Не с диких падает высот,
Средь темных скал, поток нагорный;
Не буря грозная идет;
Не ветер прах вздымает черный;
Не сотни гнущихся дубов
Шумят главами вековыми;
Не ряд морских бежит валов,
Качая гребнями седыми,-
То Иоанна льется речь,
И, сил исполненная новых,
Она громит, как божий меч,
Во прах противников Христовых.
Не солнце красное встает;
Не утро светлое настало;
Не стая лебедей взыграла
Весной на лоне ясных вод;
Не соловьи, в стране привольной,
Зовут соседних соловьев;
Не гул несется колокольный
От многохрамных городов,-
То слышен всюду плеск народный,
То ликованье христиан,
То славит речию свободной
И хвалит в песнях Иоанн,
Кого хвалить в своем глаголе
Не перестанут никогда
Ни каждая былинка в поле,
Ни в небе каждая звезда.
Любим калифом Иоанн;
Ему, что день, почет и ласка,
К делам правления призван
Лишь он один из христиан
5 Порабощенного Дамаска.
Его поставил властелин
И суд рядить, и править градом,
Он с ним беседует один,
Он с ним сидит в совете рядом;
10 Окружены его дворцы
Благоуханными садами,
Лазурью блещут изразцы,
Убраны стены янтарями;
В полдневный зной приют и тень
15 Дают навесы, шелком тканы,
В узорных банях ночь и день
Шумят студеные фонтаны.
Но от него бежит покой,
Он бродит сумрачен; не той
20 Он прежде мнил идти дорогой,
Он счастлив был бы и убогий,
Когда б он мог в тиши лесной,
В глухой степи, в уединенье,
Двора волнение забыть
25 И жизнь смиренно посвятить
Труду, молитве, песнопенью.
И раздавался уж не раз
Его красноречивый глас
Противу ереси безумной,
30 Что на искусство поднялась
Грозой неистовой и шумной.
Упорно с ней боролся он,
И от Дамаска до Царьграда
Был, как боец за честь икон
35 И как художества ограда,
Давно известен и почтен.
Но шум и блеск его тревожит,
Ужиться с ними он не может,
И, тяжкой думой обуян,
40 Тоска в душе и скорбь на лике,
Вошел правитель Иоанн
В чертог дамасского владыки.
«О государь, внемли! мой сан,
Величье, пышность, власть и сила,
45 Все мне несносно, все постыло.
Иным призванием влеком,
Я не могу народом править:
Простым рожден я быть певцом,
Глаголом вольным Бога славить!
50 В толпе вельмож всегда один,
Мученья полон я и скуки;
Среди пиров, в главе дружин,
Иные слышатся мне звуки;
Неодолимый их призыв
55 К себе влечет меня все боле —
О, отпусти меня, калиф,
Дозволь дышать и петь на воле!»
И тот просящему в ответ:
«Возвеселись, мой раб любимый!
60 Печали вечной в мире нет
И нет тоски неизлечимой!
Твоею мудростью одной
Кругом Дамаск могуч и славен.
Кто ныне нам величьем равен?
65 И кто дерзнет на нас войной?
А я возвышу жребий твой —
Недаром я окрест державен —
Ты примешь чести торжество,
Ты будешь мне мой брат единый:
70 Возьми полцарства моего,
Лишь правь другою половиной!»
К нему певец: «Твой щедрый дар,
О государь, певцу не нужен;
С иною силою он дружен;
75 В его груди пылает жар,
Которым зиждется созданье;
Служить Творцу — его призванье;
Его души незримый мир
Престолов выше и порфир.
80 Он не изменит, не обманет;
Все, что других влечет и манит:
Богатство, сила, слава, честь —
Все в мире том в избытке есть;
А все сокровища природы:
85 Степей безбережный простор,
Туманный очерк дальних гор
И моря пенистые воды,
Земля, и солнце, и луна,
И всех созвездий хороводы,
90 И синей тверди глубина —
То всe одно лишь отраженье,
Лишь тень таинственных красот,
Которых вечное виденье
В душе избранника живет!
95 О, верь, ничем тот не подкупен,
Кому сей чудный мир доступен,
Кому Господь дозволил взгляд
В то сокровенное горнило,
Где первообразы кипят,
100 Трепещут творческие силы!
То их торжественный прилив
Звучит певцу в его глаголе —
О, отпусти меня, калиф,
Дозволь дышать и петь на воле!»
105 И рек калиф: «В твоей груди
Не властен я сдержать желанье,
Певец, свободен ты, иди,
Куда влечет тебя призванье!»
И вот правителя дворцы
110 Добычей сделались забвенья;
Оделись пестрые зубцы
Травой и прахом запустенья;
Его несчетная казна
Давно уж нищим раздана,
115 Усердных слуг не видно боле,
Рабы отпущены на волю,
И не укажет ни один,
Куда их скрылся господин.
В хоромах стены и картины
120 Давно затканы паутиной,
И мхом фонтаны заросли;
Плющи, ползущие по хорам,
От самых сводов до земли
Зеленым падают узором,
125 И мак спокойно полевой
Растет кругом на звонких плитах,
И ветер, шелестя травой,
В чертогах ходит позабытых.
Благословляю вас, леса,
130 Долины, нивы, горы, воды!
Благословляю я свободу
И голубые небеса!
И посох мой благословляю,
И эту бедную суму,
135 И степь от краю и до краю,
И солнца свет, и ночи тьму,
И одинокую тропинку,
По коей, нищий, я иду,
И в поле каждую былинку,
140 И в небе каждую звезду!
О, если б мог всю жизнь смешать я,
Всю душу вместе с вами слить!
О, если б мог в свои объятья
Я вас, враги, друзья и братья,
145 И всю природу заключить!
Как горней бури приближенье,
Как натиск пенящихся вод,
Теперь в груди моей растет
Святая сила вдохновенья.
150 Уж на устах дрожит хвала
Всему, что благо и достойно,—
Какие ж мне воспеть дела?
Какие битвы или войны?
Где я для дара моего
155 Найду высокую задачу?
Чье передам я торжество
Иль чье падение оплачу?
Блажен, кто рядом славных дел
Свой век украсил быстротечный;
160 Блажен, кто жизнию умел
Хоть раз коснуться правды вечной;
Блажен, кто истину искал,
И тот, кто, побежденный, пал
В толпе ничтожной и холодной,
165 Как жертва мысли благородной!
Но не для них моя хвала,
Не им восторга излиянья!
Мечта для песен избрала
Не их высокие деянья!
170 И не в венце сияет Он,
К кому душа моя стремится;
Не блеском славы окружен,
Не на звенящей колеснице
Стоит Он, гордый сын побед;
175 Не в торжестве величья — нет,—
Я зрю его передо мною
С толпою бедных рыбаков;
Он тихо, мирною стезею,
Идет меж зреющих хлебов;
180 Благих речей своих отраду
В сердца простые Он лиёт,
Он правды алчущее стадо
К ее источнику ведёт.
Зачем не в то рожден я время,
185 Когда меж нами, во плоти,
Неся мучительное бремя,
Он шел на жизненном пути!
Зачем я не могу нести,
О мой Господь, Твои оковы,
190 Твоим страданием страдать,
И крест на плечи Твой приять,
И на главу венец терновый!
О, если б мог я лобызать
Лишь край святой Твоей одежды,
195 Лишь пыльный след Твоих шагов,
О мой Господь, моя надежда,
Моя и сила и покров!
Тебе хочу я все мышленья,
Тебе всех песней благодать,
200 И думы дня, и ночи бденья,
И сердца каждое биенье,
И душу всю мою отдать!
Не отверзайтесь для другого
Отныне, вещие уста!
205 Греми лишь именем Христа,
Мое восторженное слово!
Часы бегут. Ночная тень
Не раз сменяла зной палящий,
Не раз, всходя, лазурный день
210 Свивал покров с природы спящей;
И перед странником вдали
И волновались и росли
Разнообразные картины:
Белели снежные вершины
215 Над лесом кедровым густым,
Иордан сверкал в степном просторе,
И Мертвое чернело море,
Сливаясь с небом голубым.
И вот, виясь в степи широкой,
220 Чертой изогнутой легло
Пред ним Кедронского потока
Давно безводное русло.
Смеркалось. Пар струился синий;
Кругом царила тишина;
225 Мерцали звезды; над пустыней
Всходила медленно луна.
Брегов сожженные стремнины
На дно сбегают крутизной,
Спирая узкую долину
230 Двойной отвесною стеной.
Внизу кресты, символы веры,
Стоят в обрывах здесь и там,
И видны странника очам
В утесах рытые пещеры.
235 Сюда со всех концов земли,
Бежав мирского треволненья,
Отцы святые притекли
Искать покоя и спасенья.
С краев до высохшего дна,
240 Где спуск крутой ведет в долину,
Руками их возведена
Из камней крепкая стена,
Отпор степному сарацину.
В стене ворота. Тесный вход
245 Над ними башня стережет.
Тропинка вьется над оврагом,
И вот, спускаясь по скалам,
При свете звезд, усталым шагом
Подходит странник к воротам.
250 «Тебя, безбурное жилище,
Тебя, познания купель,
Житейских помыслов кладбище
И новой жизни колыбель,
Тебя приветствую, пустыня,
255 К тебе стремился я всегда!
Будь мне убежищем отныне,
Приютом песен и труда!
Все попечения мирские
Сложив с себя у этих врат,
260 Приносит вам, отцы святые,
Свой дар и гусли новый брат!»
«Отшельники Кедронского потока,
Игумен вас сзывает на совет!
Сбирайтесь все: пришедший издалека
265 Вам новый брат приносит свой привет!
Велики в нем и вера и призванье,
Но должен он пройти чрез испытанье.
Из вас его вручаю одному:
Он тот певец, меж всеми знаменитый,
270 Что разогнал иконоборства тьму,
Чьим словом ложь попрана и разбита,
То Иоанн, святых икон защита —
Кто хочет быть наставником ему?»
И лишь назвал игумен это имя,
275 Заволновался весь монахов ряд,
И на певца дивятся и глядят,
И пробегает шепот между ними.
Главами все поникнувши седыми,
С смирением игумну говорят:
280 «Благословен сей славный Божий воин,
Благословен меж нас его приход,
Но кто же здесь учить того достоин,
Кто правды свет вокруг себя лиeт?
Чье слово нам как колокол звучало —
285 Tого ль приять дерзнем мы под начало?»
Тут из толпы один выходит брат;
То черноризец был на вид суровый,
И строг его пытующий был взгляд,
И строгое певцу он молвил слово:
290 «Держать посты уставы нам велят,
Служенья ж мы не ведаем иного!—
Коль под моим началом хочешь быть,
Тебе согласен дать я наставленье,
Но должен ты отныне отложить
295 Ненужных дум бесплодное броженье;
Дух праздности и прелесть песнопенья
Постом, певец, ты должен победить!
Коль ты пришел отшельником в пустыню,
Умей мечты житейские попрать,
300 И на уста, смирив свою гордыню,
Ты наложи молчания печать!
Исполни дух молитвой и печалью —
Вот мой устав тебе в новоначалье».
Замолк монах. Нежданный приговор
305 Как гром упал средь мирного синклита.
Смутились все. Певца померкнул взор,
Покрыла бледность впалые ланиты.
И неподвижен долго он стоял,
Безмолвно опустив на землю очи,
310 Как будто бы ответа он искал,
Но отвечать недоставало мочи.
И начал он: «Моих всю бодрость сил,
И мысли все, и все мои стремленья —
Одной я только цели посвятил:
315 Хвалить Творца и славить в песнопенье.
Но ты велишь скорбеть мне и молчать —
Твоей, отец, я повинуюсь воле:
Весельем сердце не взыграет боле,
Уста сомкнет молчания печать.
320 Так вот где ты таилось, отреченье,
Что я не раз в молитвах обещал!
Моей отрадой было песнопенье,
И в жертву ты, Господь, его избрал!
Настаньте ж, дни молчания и муки!
325 Прости, мой дар! Ложись на гусли, прах!
А вы, в груди взлелеянные звуки,
Замрите все на трепетных устах!
Спустися, ночь, на горестного брата
И тьмой его от солнца отлучи!
330 Померкните, затмитесь без возврата,
Моих псалмов звенящие лучи!
Погибни, жизнь! Погасни, огнь алтарный!
Уймись во мне, взволнованная кровь!
Свети лишь ты, небесная любовь,
335 В моей ночи звездою лучезарной!
О мой Господь! Прости последний стон
Последний сердца страждущего ропот!
Единый миг — замрет и этот шепот,
И встану я, Тобою возрожден!
340 Свершилось. Мрака набегают волны.
Взор гаснет. Стынет кровь. Всему конец!
Из мира звуков ныне в мир безмолвный
Нисходит к вам развенчанный певец!»
В глубоком ущелье,
345 Как гнезда стрижей,
По желтым обрывам темнеют пустынные кельи,
Но речи не слышно ничьей;
Все тихо, пока не сберется к служенью
Отшельников рой;
350 И вторит тогда их обрядному пенью
Один отголосок глухой.
А там, над краями долины,
Безлюдной пустыни царит торжество,
И пальмы не видно нигде ни единой,
355 Все пусто кругом и мертво.
Как жгучее бремя,
Так небо усталую землю гнетет,
И кажется, будто бы время
Свой медленный звучно свершает над нею полет.
360 Порой отдаленное слышно рычанье
Голодного льва;
И снова наступит молчанье,
И снова шумит лишь сухая трава,
Когда из-под камней змея выползая
365 Блеснет чешуей;
Крилами треща, саранча полевая
Взлетит иногда. Иль случится порой,
Пустыня проснется от дикого клика,
Посыпятся камни, и там, в вышине,
370 Дрожа и колеблясь, мохнатая пика
Покажется в небе. На легком коне
Появится всадник; над самым оврагом
Сдержав скакуна запенённого лёт,
Проедет он мимо обители шагом
375 Да инокам сверху проклятье пошлёт.
И снова все стихнет. Лишь в полдень орлицы
На крыльях недвижных парят,
Да вечером звезды горят,
И скучною тянутся длинные дни вереницей.
380 Порою в тверди голубой
Проходят тучи над долиной;
Они картину за картиной,
Плывя, свивают меж собой.
Так, в нескончаемом движенье,
385 Клубится предо мной всегда
Воспоминаний череда,
Погибшей жизни отраженья;
И льнут, и вьются без конца,
И вечно волю осаждают,
390 И онемевшего певца,
Ласкаясь, к песням призывают.
И казнью стал мне праздный дар,
Всегда готовый к пробужденью;
Так ждет лишь ветра дуновенья
395 Под пеплом тлеющий пожар —
Перед моим тревожным духом
Теснятся образы толпой,
И, в тишине, над чутким ухом
Дрожит созвучий мерный строй;
400 И я, не смея святотатно
Их вызвать в жизнь из царства тьмы,
В хаоса ночь гоню обратно
Мои непетые псалмы.
Но тщетно я, в бесплодной битве,
405 Твержу уставные слова
И заученные молитвы —
Душа берет свои права!
Увы, под этой ризой черной,
Как в оны дни под багрецом,
410 Живым палимое огнем,
Мятется сердце непокорно!
Юдоль, где я похоронил
Броженье деятельных сил,
Свободу творческого слова —
415 Юдоль молчанья рокового!
О, передай душе моей
Твоих стремнин покой угрюмый!
Пустынный ветер, о развей
Мои недремлющие думы!
420 Tщетно он просит и ждет от безмолвной юдоли покоя,
Ветер пустынный не может недремлющей думы развеять.
Годы проходят один за другим, все бесплодные годы!
Все тяжелее над ним тяготит роковое молчанье.
Так он однажды сидел у входа пещеры, рукою
425 Грустные очи закрыв и внутренним звукам внимая.
К скорбному тут к нему подошел один черноризец,
Пал на колени пред ним и сказал: «Помоги, Иоанне!
Брат мой по плоти преставился; братом он был по душе мне!
Tяжкая горесть снедает меня; я плакать хотел бы —
430 Слезы не льются из глаз, но скипаются в горестном сердце.
Ты же мне можешь помочь: напиши лишь умильную песню,
Песнь погребальную милому брату, ее чтобы слыша,
Мог я рыдать, и тоска бы моя получила ослабу!»
Кротко взглянул Иоанн и печально в ответ ему молвил:
435 «Или не ведаешь ты, каким я связан уставом?
Строгое старец на песни мои наложил запрещенье!»
Тот же стал паки его умолять, говоря: «Не узнает
Старец о том никогда; он отсель отлучился на три дня,
Брата ж мы завтра хороним; молю тебя всею душою,
440 Дай утешение мне в беспредельно горькой печали!»
Паки ж отказ получив: «Иоанне!— сказал черноризец,—
Если бы был ты телесным врачом, а я б от недуга
Так умирал, как теперь умираю от горя и скорби,
Ты ли бы в помощи мне отказал? И не дашь ли ответа
445 Господу Богу о мне, если ныне умру безутешен?»
Так говоря, колебал в Дамаскине он мягкое сердце.
Собственной полон печали, певец дал жалости место;
Черною тучей тогда на него низошло вдохновенье,
Образы мрачной явились толпой, и в воздухе звуки
450 Стали надгробное мерно гласить над усопшим рыданье.
Слушал певец, наклонивши главу, то незримое пенье,
Долго слушал, и встал, и, с молитвой вошедши в пещеру,
Там послушной рукой начертал, что ему прозвучало.
Так был нарушен устав, так прервано было молчанье.
455 Над вольной мыслью Богу неугодны
Насилие и гнет:
Она, в душе рожденная свободно,
В оковах не умрет!
Ужели вправду мнил ты, близорукий,
460 Сковать свои мечты?
Ужель попрать в себе живые звуки
Насильно думал ты?
С Ливанских гор, где в высоте лазурной
Белеет дальний снег,
465 В простор степей стремяся, ветер бурный
Удержит ли свой бег?
И потекут ли вспять струи потока,
Что между скал гремят?
И солнце там, поднявшись от востока,
470 Вернется ли назад?
Колоколов унылый звон
С утра долину оглашает.
Покойник в церковь принесен;
Обряд печальный похорон
475 Собор отшельников свершает.
Свечами светится алтарь,
Стоит певец с поникшим взором,
Поет напутственный тропарь,
Ему монахи вторят хором:
Тропарь 480 «Какая сладость в жизни сей
Земной печали непричастна?
Чье ожиданье не напрасно?
И где счастливый меж людей?
Все то превратно, все ничтожно,
485 Что мы с трудом приобрели,—
Какая слава на земли
Стоит тверда и непреложна?
Все пепел, призрак, тень и дым,
Исчезнет все как вихорь пыльный,
490 И перед смертью мы стоим
И безоружны и бессильны.
Рука могучего слаба,
Ничтожны царские веленья —
Прими усопшего раба,
495 Господь, в блаженные селенья!
Как ярый витязь смерть нашла,
Меня как хищник низложила,
Свой зев разинула могила
И все житейское взяла.
500 Спасайтесь, сродники и чада,
Из гроба к вам взываю я,
Спасайтесь, братья и друзья,
Да не узрите пламень ада!
Вся жизнь есть царство суеты,
505 И, дуновенье смерти чуя,
Мы увядаем, как цветы,—
Почто же мы мятемся всуе?
Престолы наши суть гроба,
Чертоги наши — разрушенье,—
510 Прими усопшего раба,
Господь, в блаженные селенья!
Средь груды тлеющих костей
Кто царь? кто раб? судья иль воин?
Кто царства Божия достоин?
515 И кто отверженный злодей?
О братья, где сребро и злато?
Где сонмы многие рабов?
Среди неведомых гробов
Кто есть убогий, кто богатый?
520 Все пепел, дым, и пыль, и прах,
Все призрак, тень и привиденье —
Лишь у Тебя на небесах,
Господь, и пристань и спасенье!
Исчезнет все, что было плоть,
525 Величье наше будет тленье —
Прими усопшего, Господь,
В Твои блаженные селенья!
И Ты, предстательница всем!
И Ты, заступница скорбящим!
530 К Тебе о брате, здесь лежащем,
К Тебе, Святая, вопием!
Моли Божественного Сына,
Его, Пречистая, моли,
Дабы отживший на земли
535 Оставил здесь свои кручины!
Все пепел, прах, и дым, и тень!
О други, призраку не верьте!
Когда дохнет в нежданный день
Дыханье тлительное смерти,
540 Мы все поляжем, как хлеба,
Серпом подрезанные в нивах,—
Прими усопшего раба,
Господь, в селениях счастливых!
Иду в незнаемый я путь,
545 Иду меж страха и надежды;
Мой взор угас, остыла грудь,
Не внемлет слух, сомкнуты вежды;
Лежу безгласен, недвижим,
Не слышу братского рыданья,
550 И от кадила синий дым
Не мне струит благоуханье;
Но вечным сном пока я сплю,
Моя любовь не умирает,
И ею, братья, вас молю,
555 Да каждый к Господу взывает:
Господь! В тот день, когда труба
Вострубит мира преставленье,—
Прими усопшего раба
В Твои блаженные селенья!»
560 Так он с монахами поет.
Но вот меж ними, гость нежданный,
Нахмуря брови, предстает
Наставник старый Иоанна.
Суровы строгие черты,
565 Главу подъемля величаво:
«Певец,— он молвит,— так ли ты
Блюдешь и чтишь мои уставы?
Когда пред нами братний прах,
Не петь, но плакать нам пристойно!
570 Изыди, инок недостойный,—
Не в наших жить тебе стенах!»
И, гневной речью пораженный,
Виновный пал к его ногам:
«Прости, отец! не знаю сам,
575 Как преступил твои законы!
Во мне звучал немолчный глас,
В неодолимой сердца муке
Невольно вырвалися звуки,
Невольно песня полилась!»
580 И ноги старца он объемлет:
«Прости вину мою, отец!»
Но тот раскаянью не внемлет,
Он говорит: «Беги, певец!
Досель житейская гордыня
585 Еще жива в твоей груди —
От наших келий отойди,
Не оскверняй собой пустыни!»
Прошла по лавре роковая весть,
Отшельников смутилося собранье:
590 «Наш Иоанн, Христовой церкви честь,
Наставника навлек негодованье!
Ужель ему придется перенесть,
Ему, певцу, позорное изгнанье?»
И жалостью исполнились сердца,
595 И все собором молят за певца.
Но, словно столб, наставник непреклонен,
И так в ответ просящим молвит он:
«Устав, что мной однажды узаконен,
Не будет даром ныне отменен.
600 Кто к гордости и к ослушанью склонен,
Того как терн мы вырываем вон.
Но если в нем неложны сожаленья,
Эпитимьей он выкупит прощенье:
Пусть он обходит лавры черный двор,
605 С лопатою обходит и с метлою;
Свой дух смирив, пусть всюду грязь и сор
Он непокорной выметет рукою.
Дотоль над ним мой крепок приговор,
И нет ему прощенья предо мною!»
610 Замолк. И, вняв безжалостный отказ,
Вся братия в печали разошлась.
Презренье, други, на певца,
Что дар священный унижает,
Что пред кумирами склоняет
615 Красу лаврового венца!
Что гласу истины и чести
Внушенье выгод предпочел,
Что угождению и лести
Бесстыдно продал свой глагол!
620 Из века в век звучать готово,
Ему на казнь и на позор,
Его бессовестное слово,
Как всенародный приговор.
Но ты, иной взалкавший пищи,
625 Ты, что молитвою влеком,
Высокий сердцем, духом нищий,
Живущий мыслью со Христом,
Ты, что пророческого взора
Пред блеском мира не склонял,—
630 Испить ты можешь без укора
Весь унижения фиал!
И старца речь дошла до Дамаскина.
Эпитимьи условия узнав,
Певец спешит свои загладить вины,
635 Спешит почтить неслыханный устав.
Сменила радость горькую кручину:
Без ропота лопату в руки взяв,
Певец Христа не мыслит о пощаде,
Но униженье терпит Бога ради.
640 Тот, кто с вечною любовию
Воздавал за зло добром —
Избиен, покрытый кровию,
Венчан терновым венцом —
Всех, с собой страданьем сближенных,
645 В жизни долею обиженных,
Угнетенных и униженных,
Осенил своим крестом.
Вы, чьи лучшие стремления
Даром гибнут под ярмом,
650 Верьте, други, в избавление —
К Божью cвету мы грядем!
Вы, кручиною согбенные,
Вы, цепями удрученные,
Вы, Христу сопогребенные,
655 Совоскреснете с Христом!
Темнеет. Пар струится синий;
В ущелье мрак и тишина;
Мерцают звезды; и луна
Восходит тихо над пустыней.
660 В свою пещеру одинок
Ушел отшельник раздраженный.
Все спит. Луной посеребренный,
Иссякший видится поток.
Над ним скалистые вершины
665 Из мрака смотрят там и тут;
Но сердце старца не влекут
Природы мирные картины;
Оно для жизни умерло.
Согнувши строгое чело,
670 Он, чуждый миру, чуждый братьям,
Лежит, простерт перед распятьем.
В пыли седая голова,
И смерть к себе он призывает,
И шепчет мрачные слова,
675 И камнем в перси ударяет.
И долго он поклоны клал,
И долго смерть он призывал,
И наконец, в изнеможенье,
Безгласен, наземь он упал,
680 И старцу видится виденье:
Разверзся вдруг утесов свод,
И разлилось благоуханье,
И от невидимых высот
В пещеру падает сиянье.
685 И в трепетных его лучах,
Одеждой звездною блистая,
Явилась Дева Пресвятая
С Младенцем спящим на руках.
Из света чудного слиянный,
690 Ее небесно-кроток вид.
«Почто ты гонишь Иоанна? —
Она монаху говорит. —
Его молитвенные звуки,
Как голос неба на земли,
695 В сердца послушные текли,
Врачуя горести и муки.
Почто ж ты, старец, заградил
Нещадно тот источник сильный,
Который мир бы напоил
700 Водой целебной и обильной?
На то ли жизни благодать
Господь послал своим созданьям,
Чтоб им бесплодным истязаньем
Себя казнить и убивать?
705 Он дал природе изобилье,
И бег струящимся рекам,
Он дал движенье облакам,
Земле цветы и птицам крылья.
Почто ж певца живую речь
710 Сковал ты заповедью трудной?
Оставь его глаголу течь
Рекой певучей неоскудно!
Да оросят его мечты,
Как дождь, житейскую долину;
715 Оставь земле ее цветы,
Оставь созвучья Дамаскину!»
Виденье скрылось в облаках,
Заря восходит из тумана…
Встает встревоженный монах,
720 Зовет и ищет Иоанна —
И вот обнял его старик:
«О сын смирения Христова!
Тебя душою я постиг —
Отныне петь ты можешь снова!
725 Отверзи вещие уста,
Твои окончены гоненья!
Во имя Господа Христа,
Певец, святые вдохновенья
Из сердца звучного излей,
730 Меня ж, молю, прости, о чадо,
Что слову вольному преградой
Я был по грубости моей!»
Воспой же, страдалец, воскресную песнь!
Возрадуйся жизнию новой!
735 Исчезла коснения долгая плеснь,
Воскресло свободное слово!
Того, кто оковы души сокрушил,
Да славит немолчно созданье!
Да хвалят торжественно Господа сил
740 И солнце, и месяц, и хоры светил,
И всякое в мире дыханье!
Блажен, кому ныне, Господь, пред Тобой
И мыслить и молвить возможно!
С бестрепетным сердцем и с теплой мольбой
745 Во имя Твое он выходит на бой
Со всем, что неправо и ложно!
Раздайся ж, воскресная песня моя!
Как солнце взойди над землею!
Расторгни убийственный сон бытия
750 И, свет лучезарный повсюду лия,
Громи, что созиждено тьмою!
Не с диких падает высот,
Средь темных скал, поток нагорный;
Не буря грозная идет;
755 Не ветер прах вздымает черный;
Не сотни гнущихся дубов
Шумят главами вековыми;
Не ряд морских бежит валов,
Качая гребнями седыми,—
760 То Иоанна льется речь,
И, сил исполненная новых,
Она громит, как Божий меч,
Во прах противников Христовых.
Не солнце красное встает;
765 Не утро светлое настало;
Не стая лебедей взыграла
Весной на лоне ясных вод;
Не соловьи, в стране привольной,
Зовут соседних соловьев;
770 Не гул несется колокольный
От многохрамных городов,—
То слышен всюду плеск народный,
То ликованье христиан,
То славит речию свободной
775 И хвалит в песнях Иоанн,
Кого хвалить в своем глаголе
Не перестанут никогда
Ни каждая былинка в поле,
Ни в небе каждая звезда.
Поэма написана на основе Жития прп. Иоанна Дамаскина, христианского поэта-песнопевца, еще при жизни прозванного Златоструйным. Ради служения Богу Иоанн покинул двор халифа, где пользовался почетом и влиянием, и удалился в Лавру Саввы Освященного. К этому времени он был уже знаменит – и как поэт, и как защитник христианства. Но в обители знаменитость – мирское искушение, ведущее к гордыне. Суровый старец, данный настоятелем в наставники Иоанну, желая смирить послушника и оградить его от гордыни, дал ему устав молчания и запретил писать. Иоанн, поэт от Бога, для которого не петь было – как не дышать, строго и безропотно нес послушание. Но умер один из братьев обители, и другой брат в горе пришел к певцу и молил его дать песнопение, способное утишить скорбь. Стойко смирявший невыносимое давление своего дара, Иоанн не смог устоять перед человеческим горем. Сострадание заставило его нарушить устав. Он написал стихиры, способные заставить горе излиться в слезах. Старец наложил на него суровое и унизительное наказание – заставил убирать нужники, и бывший вельможа со смирением принял его. Но суровому наставнику во сне явилась Богоматерь и сказала ему, что дар послан Иоанну Богом. Освобожденный от запрета певец в течение 50 лет неустанно и щедро славил в песнетворчестве своем Творца.
Такую вот историю о Божьем Даре и смирении, о путях служения выбрал для поэмы русский писатель 19 в.
Послушаем. Вот Иоанн просит халифа отпустить его из Дамаска:
Иным призванием влеком,
Я не могу народом править:
Простым рожден я быть певцом,
Глаголом вольным бога славить!
Халиф, стремясь его удержать, предлагает ему еще большие милости. Вот ответ Дамаскина:
“Твой щедрый дар,
О государь, певцу не нужен;
С иною силою он дружен;
В его груди пылает жар,
Которым зиждется созданье;
Служить творцу его призванье;
Его души незримый мир
Престолов выше и порфир.
Он не изменит, не обманет;
Все, что других влечет и манит:
Богатство, сила, слава, честь –
Все в мире том в избытке есть;
………………………….
О, верь, ничем тот не подкупен,
Кому сей чудный мир доступен,
Кому господь дозволил взгляд
В то сокровенное горнило,
Где первообразы кипят,
Трепещут творческие силы!
В общем-то, да. Если брать этот момент, то сурового старца понять можно. В ответе Иоанна есть прозрение, но присутствует и гордыня, упоение собственной избранностью, даже заносчивость. Он отвергает мирские почести и блага не только из стремления следовать своему призванию, но еще и потому, что удел певца ему представляется “престолов выше и порфир”. Эта певческая гордыня, которой Алексей Константинович наделил своего Иоанна, еще много раз прозвучит в русской поэзии, особенно – в поэзии Серебряного века. Это и цветаевское: “Твоя стезя, гривастая кривая, не предугадана календарем!” И царственное ахматовское: “Я была тогда с моим народом…” И горько-высокомерное:
А мы, мудрецы и поэты,
Хранители тайны и веры,
Унесем зажженные светы
В катакомбы, в пустыни, в пещеры…
Странные мысли о русской поэзии возникают у меня. Затертая и истасканная фраза посредственного автора: “Поэт в России – больше, чем поэт.” – выражает ведь, на самом деле, глубокую правду. Избранность поэтов в русской традиции не подвергается сомнению.Как и неизбежность расплаты за эту избранность – той или иной:
Быть поэтом – это значит то же –
Если правды жизни не нарушить –
Рубцевать себя по нежной коже,
Кровью чувств ласкать чужие души. (С. Есенин)
Конечно же, все началось с Пушкина, с “Пророка”. Но в “Пророке” поэт – орудие Господа, смиренное орудие: “Исполнись волею Моей…” Своеволие здесь исключается.
С наступлением эры романтизма своеволие становится едва ли не синонимом избранности. Под знаком Мятежа избранность превращается в элитарность.
Алексея Толстого традиционно причисляют к поэтам-романтикам. Но не будем забывать, что девизом своим он избрал: “Против течения!”.
Читаем дальше.Вот Дамаскин идет к обители. Один, с котомкой. Среди безмерной красоты Божьего мира.
Благословляю вас, леса,
Долины, нивы, горы, воды!
Благословляю я свободу
И голубые небеса!
И посох мой благословляю,
И эту бедную суму,
И степь от краю и до краю,
И солнца свет, и ночи тьму,
И одинокую тропинку,
По коей, нищий, я иду,
И в поле каждую былинку,
И в небе каждую звезду!
О, если б мог всю жизнь смешать я,
Всю душу вместе с вами слить!
О, если б мог в свои объятья
Я вас, враги, друзья и братья,
И всю природу заключить!
Этот путь из Дамаска по значительности внутренней перемены, внутреннего перерождения напоминает другой путь – в Дамаск. Перед нами уже не тот человек, что выбирал более высокий удел. Это – христианин, постигший глубинную, не выразимую словом, истину братства.
Принято считать, что в образе старца-наставника Толстой показал упертого ортодокса, ограниченного начетчика, не способного понять высшей истины творчества. Это так, но не совсем. На мой взгляд, тут все намного сложнее. Да, старец не принимает поэзии, видит в ней только прелесть и искушение:
“Дух праздности и прелесть песнопенья
Постом, певец, ты должен победить!”
Но как на это реагирует Иоанн – Иоанн, уже переживший озарение? Возмущен, озадачен? Может быть, в нем возникает протест? Ведь только совсем недавно этот человек говорил калифу, что нет ничего выше призвания певца… В том-то и дело, что нет! Послушайте:
Так вот где ты таилось, отреченье,
Что я не раз в молитвах обещал!
Моей отрадой было песнопенье,
И в жертву ты, Господь, его избрал!
“И вырвал грешный мой язык…”
У Дамаскина нет ни малейшего сомнения в том, что воля старца лишена своеволия, что это – воля Господа. И читатель видит тому подтверждение. Ведь Матерь Божия явилась старцу не сейчас и не здесь, чтобы разрешить Иоанна от устава молчания. Она пришла – но много, много спустя… Когда же?
Tщетно он просит и ждет от безмолвной юдоли покоя,
Ветер пустынный не может недремлющей думы развеять.
Годы проходят один за другим, все бесплодные годы!
Зачем эти муки? Просто так, потому что велели? Нет. Это – служение, это – спасение Души.
Но вот однажды в угрюмое ущелье, где спасался Иоанн, приходит – нет, не ангел с ликующей вестью! – просто человек, у которого горе. И певец в силах это горе облегчить, нарушив устав и сделав бессмысленными все страдания долгих лет. И мы знаем – он это сделал.
НЕТ БОЛЬШЕ ТОЙ ЛЮБВИ, АЩЕ КТО ПОЛОЖИТ ДУШУ СВОЮ ЗА ДРУГИ СВОЯ (Иоанн, 15.13)
Тот самый процесс превращения поэта в Пророка, который так страшно описывл Пушкин: “…десницею кровавой.”
Нет, присматриваясь к этой поэме, я не пытаюсь поставить поэтов на место святых или объяснить поэтам, как им стать святыми. И не думаю, чтобы Толстого занимали подобные вопросы. Как, впрочем, и Пушкина. Оба они говорили о предназначении литературы. О пути к ее истинному предназначению. Оба видели путь этот трудным, мучительным и пролегающим отнюдь не в области сугубо литературной. И оба, что примечательно, использовали христианские образы. Можно предположить, что существует нечто глубинное, некая скрытая основа, включающая русскую поэзию в сферу христианского. Пушкин эту основу в “Пророке” – выявлял.
А Толстой?
Великий поперечник (“Против течения!”), трезвый насмешник, друг славянофилов и романтический поэт избирает героем своей поэмы христианского песнопевца в ту эпоху, когда это было, скажем так, немодно. Шли затяжные бои между свободомыслием (в том числе славянофильским) и окостеневшим в формальном Православии официозом. Сам же Алексей Константинович и с запретителями Дарвина воевал и детище свое, бессмертного Козьму Пруткова, на ханжей с удовольствием натравливал. И вот он пишет о Дамаскине. В самом выборе героя уже заложен вызов эпохе. А поскольку герой – поэт, и поэма – о поэзии, можно сделать вывод, что это – вызов романтическому направлению.
Основные характерные признаки этого направления: идея Мятежа, подчас доходящая до прямого поклонения сатане, одинокий, непонятый бунтующий герой на фоне серой покорной массы, в конце очень желательна трагическая гибель – для полноты картины.
А что мы видим у Толстого? Сначала все вроде бы развивается по правилам: герой бросает налаженную и богатую жизнь, с великолепным презрением избранного отвергает уговоры властителя, уходит с нищенской сумой за плечами. Но потом – потом все развивается совсем не так. Вместо гордого одиночества – открытость миру, готовность заключить в объятия “врагов, друзей и братьев”. Вместо мятежа – смиренная покорность слову наставника, жестокому и внешне несправедливому. Вместо трагической гибели – торжествующая песнь. Вместо гимнов “духу отрицанья” – служение Господу. И в основе всего – Иоанн, 15.13.
Провидел ли Алексей Константинович ту “гривастую кривую”, что приведет русскую поэзию сначала к состоянию “проклятости”, а потом – к бесславному и позорному концу, к бессмысленности Пригова и иже с ним? Или просто чутким сердцем ощущал неправильность, гностическую бесчеловечность, зарождавшуюся в романтизме? Не знаю, да и не важно это. Важно, что в крутящемся ныне хаосе открывается, возможно, шанс расслышать выпадавшие из хора голоса несостоявшихся надежд, заглушенные временем предупреждения, – и может быть, может быть… Не погибнуть?
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.К. ТОЛСТОГО
УДК 82.091
Антонова М.В., доктор филологических наук, профессор, Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева (Россия)
ЖИТИЕ ИОАННА ДАМАСКИНА КАК ОСНОВА СЮЖЕТА ПОЭМЫ А.К. ТОЛСТОГО
«ИОАНН ДАМАСКИН»
Данная статья посвящена проблеме выявления источника поэмы А.К. Толстого «Иоанн Дамаскин», а также сравнительно сопоставительному анализу текста поэмы и Жития святого с целью определения сущности творческой переработки сюжета. В статье доказано, что источником сюжета поэмы А.К. Толстого «Иоанн Дамаскин» является Житие Иоанна Дамаскина в редакции Димитрия Ростовского, которое было хорошо знакомо современникам поэта по многочисленным печатным изданиям. Оспорено утверждение Э. Лаута о знакомстве поэта с греческой версией жития. Проведено сравнение житийных эпизодов, использованных А.К. Толстым, и текста поэмы. Отмечена авторская индивидуальность в ряде деталей и интерпретации событий. Проблема поэтического дара и права на его использование является центральной как в Житии Иоанна Дамаскина, так и в поэме А.К. Толстого. В Житии святой проходит два круга испытаний – физические и духовные. В поэме А.К. Толстой, как известно, обращается лишь к повествованию начальном этапе жизни Иоанна Дамаскина в монастыре. В целом А.К. Толстой следует за сюжетным эпизодом о творческом молчании Иоанна Дамаскина, в то же время вводит конфликтное противостояние ученика и наставника, а также усиливает мотивы духовных испытаний поэта.
Ключевые слова: Житие Иоанна Дамаскина, Великие Минеи Четии, Димитрий Ростовский, А.К. Толстой, поэма «Иоанн Дамаскин», сюжет, сюжетный эпизод. DOI: 10.22281/2413-9912-2017-01-03-94-101
Введение. Поэма А.К Толстого «Иоанн Дамаскин», написанная в 1858 году, несомненно, является одним из самых проникновенных творений поэта, посвященных осмыслению места и значения песнотворца, художника в мире. Центральный образ поэмы -Иоанн Дамаскин – один из отцов церкви, разработавший основы догматики, последовательный защитник иконопочитания, прославившийся в том числе своими литургическими и гимнографическими сочинениями. Иоанн Да-маскин считается создателем Октоиха и Типикона лавры прп. Саввы Освященного, он реформировал богослужебную поэзию и музыку. Как указывает современный исследователь творчества Иоанна Дамаскина свящ. Эндрю Лаут, ему «в греч. рукописях усваиваются: 531 ирмос, 75 канонов Минеи, 15 канонов Октоиха, 454 самогласные стихиры, 138 стихир на подобен, 13 заупокойных стихир и 181 “восточная” стихира» . Значительная часть этих сочинений включена в современные богослужебные книги и используется в наши дни.
Источником поэмы А.К. Толстого, несомненно, послужило Житие Иоанна Дамаскина. Этот факт неоднократно отмечался в комментариях к изданиям текста. Так, И. Ямпольский пишет: «Источник поэмы указан самим Толстым в письме к Маркевичу от 4 февраля 1859 г.; это –
житие богослова и автора церковных песнопений Иоанна Дамаскина (VII — VIII вв.)» . В содержательном отношении нет никакого сомнения, что, во-первых, основой поэмы является жизнеописание Дамаскина, а во-вторых, поэт пользовался русскими источниками. Однако сравнительно недавно опубликованная статья Эндрю Лаута « “Иоанн Дамаскин” Алексея Толстого» заставляет нас обратить более пристальное внимание на данный вопрос, поскольку английский исследователь предполагает, что в качестве источника поэт мог использовать непосредственно греческое житие, которое им было прочитано и усвоено именно в греческом оригинале: «Толстой мог прочитать Житие по-гречески; ему также могло быть доступно описание жизни преп. Иоанна в сборнике житий святых, которое могло основываться на греческом житии» . При этом Лауд не отрицает, что в середине XIX века вполне доступны были тексты Жития Иоанна Дамаскина на церковнославянском языке, входившие в декабрьскую Минею или в синаксарь (то есть Пролог). Однако данное обстоятельство практически не принимается в расчет. Исследователь утверждает, что он «не мог проверить славянский текст Минеи», тем не менее высказывает уверенное суждение о том, что данный (неизвестный ему) текст «должен быть основан на
греческом тексте, а описание в нём намного скуднее, чем в греческом Житии, и, в частности, в нём не упоминается эпизод с погребальным тропарём» . Если с первой частью данного высказывания о соотношении греческого и славянского текстов Жития Иоанна Дамаскина нельзя не согласиться, то суждения о содержании древнерусского жития по меньшей мере вызывают недоумение, поскольку нельзя строить заключения о том или ином тексте, основываясь лишь на своих догадках и не исследовав его de visu. Такой подход, непременно, приводит к ошибкам, что собственно и происходит в рассматриваемой статье: вопреки утверждению исследователя, в славянском Житии очень подробно воспроизведен «эпизод с погребальным тропарем».
Ответ на вопрос, какой текст стал источником поэмы «Иоанн Дамаскин», был дан самим А.К. Толстым в письме Б.М. Маркевичу от 4 февраля 1859 г.: «Те, кто говорит, что для своей песни он должен был бы взять иной мотив, нежели тот, какой он взял, просто не читали его жизни. Пусть они откроют Четьи-Минеи – они увидят, что все было точно так, как я описал. Если бы я написал иначе, я бы отступил от предания» .
Тем не менее, важным является вопрос о том, каким именно минейным текстом пользовался поэт и в какой мере сюжет жития был им воспринят и переосмыслен.
Методы. Для решения поставленных задач нами были использованы культурно-исторический и сравнительно-сопоставительный методы исследования.
Результаты. Основным результатом предпринятого исследования стало подтверждение факта обращения А.К. Толстого к Житию Иоанна Дамаскина в редакции Димитрия Ростовского, а также определение существа авторской интерпретации агиографического сюжетного эпизода, использованного им для создания поэмы «Иоанн Дамаскин».
Обсуждение. Минеи Четьи – агиографический сборник, в котором жития святых располагаются по дням месяца в соответствии с датами празднования памяти святых. Первые сборники данного типа были составлены на греческой почве, а окончательное их оформление в византийской традиции, как и утверждение агиографического канона, связано с именем Симеона Метафраста, который в X веке предпринял громадную работу по составлению и исправлению значительного корпуса житий святых. Перевод-
ные славянские Минеи, дополненные оригинальными житиями, были известны на Руси, начиная с XI века. Первая часть знаменитого Успенского сборника (ХШ века), как известно, представляет собой майскую минею, правда, с несколько необычным порядком следования чтений .
В XVI веке митрополит новгородский Макарий со своими сотрудниками предпринял колоссальный труд по собиранию и редактированию книг «чтомых, которые в русской земле обретаются». В результате было создано 12-томное творение, которое получило название «Великие Минеи Четии». Это поистине энциклопедическое собрание, включающее в себя не только агиографические, но и риторические, дидактические, гомилетические, исторические памятники. При Макарии с 1529 по 1554 гг. было составлено три редакции Великий Миней Четиих – Софийская, Успенская и Царская. В середине XVII век (1646 – 1654 гг.) священник церкви Рождества Христова Троице-Сергиевой лавры Иоанн Милютин создает свою версию Четьи Миней. Разумеется, все эти редакции были рукописными.
Старопечатные славянские Четьи Минеи принадлежат перу св. Димитрия Ростовского (в миру Даниила Саввича Туптало). Работа над житиями продолжалась с 1684 по 1705 гг. Основными церковнославянскими источниками для Димитрия Ростовского были минеи митрополита Макария, Иоанна Милютина, Киево-Печерский патерик. Однако он пользовался и иными источниками, наиболее авторитетным из которых был свод «Acta santorum» боллан-дистов .
В Новое время массово переиздавались именно Минеи Димитрия Ростовского, и до середины XIX века широкая читающая публика практически ничего не знала о Макарьевских Минеях. Издание Великих Миней Четиих было предпринято Петербургской Археографической комиссией начиная с 1868 года и пресеклось в 1917 году. Более половины текста памятника до сих пор осталось не изданным.
Житие Иоанна Дамаскина входит в состав Макарьевских Миней, оно отнесено к 4 декабря, дню памяти святого. Декабрьская Минея, дни с 1 по 5, была издана археографической комиссией в 1901 году , так что А.К. Толстой вряд ли мог ознакомиться именно с этим текстом. Поскольку поэт непосредственно указывал на Минеи как источник своего сочинения, а также с учетом широкого рас-
пространения печатных Миней Димитрия Ростовского вопрос о возможном его обращении к греческому Житию Иоанна Дамаскина, на наш взгляд, совершенно неуместен. Нет никакого сомнения в том, что А.К. Толстой в качестве сюжетной основы поэмы использовал Житие Иоанна Дамаскина в редакции Димитрия Ростовского .
По наблюдениям Д.Б.Терешкиной, Минеи Димитрия Ростовского оказали значительное влияние на развитие русской литературы Нового времени. С точки зрения исследовательницы, «представляется возможным говорить о минейном коде в текстах, отстоящих друг от друга во временном и историко-литературном отношении», в том числе в «классических произведениях русской литературы (А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, Н.С. Лескова, А.Н. Островского, А.К. Толстого, Л.Н. Толстого, К.К. Слу-чевского, И.С. Шмелева, Б.К. Зайцева, А.А. Ахматовой, А.И. Солженицына)» .
Первое по времени возникновения Житие Иоанна Дамаскина до нашего времени не дошло. Считается, что оно было составлено на арабском языке еще в начале IX – X вв. Этот текст, очевидно, лег в основу греческой версии, которую датируют X-XI вв.; в рукописях авторство приписывается Иоанну, митрополиту Иерусалимскому (или ошибочно – Антиохийскому). Греческая редакция была переведена на латинский и славянский языки
В Великих Минеях митрополита Макария читается восходящая к Иерусалимской древнерусская редакция Жития Иоанна Дамаскина: «В тои же день Житие и жизнь преподобнаго отца нашего Иоанна Дамаскина, списано Иоанномъ патриахомь Антиохийскимъ» .
В Минеях Димитрия Ростовского на полях в начале Жития Иоанна Дамаскина имеется запись, указывающая на авторство текста и характер его редакторской обработки: «Написатель сего жития бе Иоаннъ патриарх Иерусалимский, из него же зде сокращеннее мало» . Сокращения однако же не коснулись содержания: в редакции Димитрия Ростовского, с которой, как мы полагаем, был знаком А.К. Толстой, сохранены все сюжетные элементы текста: рождение от благоверных и благочестивых родителей в Дамаске, обучение грамоте вместе с братом Козьмой у инока, носившего то же имя, смерть отца, исполнение должности советника у «Сарацинского царя», обличение иконоборцев и месть императора Льва III, отсечение руки, чудо исцеления, уход в монастырь, послушничество у
старца, эпизод с написанием погребального тропаря и последующее признание Иоанна как песнопевца. В этой связи еще раз выразим недоумение по поводу суждения Эндрю Лауда, который, как мы цитировали выше, считает, что в славянском житии Иоанна Дамаскина отсутствует эпизод с погребальным тропарем.
Собственно в анализируемом житии можно выделить две центральные сюжетно-композиционные части, которые связаны с чю-дотворением, сопровождаются явлениями Богоматери, и определяют дальнейшую судьбу агиографического героя. Иоанн Дамаскин в Житии проходит два круга испытаний. Первый – физические муки. История с клеветой императора Льва III, отсечением руки и чудесным исцелением святого по заступничеству Богородицы связана с легендой об иконе Божией Матери Троеручицы. Однако данный сюжет остался за пределами повествования в поэме А.К. Толстого. Второй круг – испытания духовные. Суровый наставник в Лавре Саввы Освященного, куда обратился Иоанн, чтобы принять постриг, воспрещает ему что-либо делать во своей воле, а более всего пользоваться своим писательским даром: «да никому же послеши послание, ниже да проглаголеши к кому что отъ внешняго наказания. Молчание имей с разсуждениемъ: веси бо яко не точию наши любомудрцы молчанию учатъ, но и Пифагоръ ученикомъ своимъ многолетное молчание завещаваетъ» .
В целом признавая довольно точное следование А.К. Толстым за сюжетом Жития Иоанна Дамаскина («Если бы я написал иначе, я бы отступил от предания»), надо отметить авторскую индивидуальность в некоторых деталях и интерпретации событий. Еще И.Ямполь-ский отмечал, что сравнение Жития Иоанна Дамаскина и поэмы А.К. Толстого показывает, что «тема поэта и поэтического творчества играет в “Иоанне Дамаскине” значительно большую роль, чем в житии Иоанна Дамаскина, а чисто религиозные мотивы последнего отошли на второй план; недаром Толстой с первых же страниц называет Иоанна «певцом», и слово это повторяется десятки раз. Характер переработки источника, лишь одним эпизодом которого воспользовался Толстой, находится в непосредственной связи с центральной идеей поэмы: свобода поэтического слова, независимость художника и огромное моральное воздействие искусства на человечество, разумеется, в том их романтическом понимании, которое входило как составная часть в мировоззрение Толстого» .
Нам трудно согласиться с исследователем в том, что «религиозные мотивы» в поэме «отошли на второй план», а проблема творчества в Житии не является столь значимой, как в сочинении А.К. Толстого. Проблема поэтического дара, шире – дара словесности и права на его использование, именно вслед за Житием Иоанна Дамаскина становится центральной в поэме А.К. Толстого. В то же время ее трактовка отличается своеобразием.
В Житии Иоанна Дамаскина решение героя принять иноческий сан мотивировано предшествующими событиями, а именно обетом данным в молитве Богоматери об исцелении усеченной руки и собственно в повелении Богоматери, обращенном к герою: «се здрава тебе есть рука, не скорби прочее; обаче трудися ею неленостно, яко же мне обещался еси, и сотвори ю трость скорописца» . Этот эпизод по типу является «эпизодом благовествова-ния» , определяющим дальнейший жизненный путь героя, который теперь стремится освободиться от службы мирскому государю и посвятить себя служению Господу. В поэме А.К. Толстого, как мы уже говорили, рассказ об усечении десницы отсутствует, однако воспринята тема свободы певца от мирских обязанностей вельможи:
О государь, внемли! мой сан, Величье, пышность, власть и сила, Всё мне несносно, всё постыло. Иным призванием влеком, Я не могу народом править: Простым рождён я быть певцом, Глаголом вольным Бога славить!
.
В Житии наставник для Иоанна был определен не сразу, четверо монахов отказались, стесняясь знатности ученика. «По сихъ всехъ призванъ бысть некий старецъ, простъ нравомъ, разумъ же многий имеяй, той не отречеся иоанну наставникъ быти» . В поэме А.К. Толстого иноки испытывают удивление и смущение, они недоумевают, кто мог бы «дерзнуть» стать наставником выдающемуся певцу, но не отвечают отказом на призыв игумена; Некий «брат» – «черноризец» «на вид суровый» -сам вызывается быть учителем Иоанна и предлагает ему свои строгие условия послушания:
«Держать посты уставы нам велят, Служенья ж мы не ведаем иного! –
Коль под моим началом хочешь быть, Тебе согласен дать я наставленье. Но должен ты отныне отложить Ненужных дум бесплодное броженье; Дух праздности и прелесть песнопенья Постом, певец, ты должен победить!
Коль ты пришел отшельником в пустыню, Умей мечты житейские попрать, И на уста, смирив свою гордыню, Ты наложи молчания печать! Исполни дух молитвой и печалью -Вот мой устав тебе в новоначалье»
.
В Житии взаимоотношения учителя и ученика достаточно гармоничны и определены монастырским уставом. Старец принимает наставничество как собственный урок, он не стремится сознательно подавить волю или изменить сущность послушника, но в своих заповедях лишь следует правилам и требует неукоснительного их исполнения. У А.К. Толстого суровый наставник сам вызывается быть учителем, и в этом громадная разница между персонажами: черноризец в поэме стремится подавить волю Иоанна, подчинить его себе, что свидетельствует о грехе гордыни.
Соответственно, агиографический святой и литературный Иоанн Дамаскин выпавшее испытание воспринимают по-разному. «То все поучение старцево на сердце Иоанного яко семя доброе паде и прозябше вкоренися» , – читаем в Житии Иоанна Дамаскина.
В поэме требования старца неожиданны для всех присутствующих и слишком суровы, они воспринимаются как приговор для певца:
Замолк монах. Нежданный приговор Как гром упал среди мирного синклита. Смутились все. Певца померкнул взор, Покрыла бледность впалые ланиты
.
Испытание, предстоящее Иоанну, тем более сурово, что, отправляясь в монастырь, он мечтал о пустыни как о месте, где сможет свой поэтический дар полностью посвятить служению Господу:
Тебя приветствую, пустыня, К тебе стремился я всегда! Будь мне убежищем отныне, Приютом песен и труда! Все попечения мирские
Сложив с себя у этих врат, Приносит вам, отцы святые, Свой дар и гусли новый брат! . Иоанн в поэме А.К. Толстого не отступает от своего решения посвятить себя служению Богу в монастыре, запрет на творчество он воспринимает как своеобразную жертву, сопоставимую со смертью:
«… Так вот где ты таилось, отреченье, Что я не раз в молитвах обещал! Моей отрадой было песнопенье, И в жертву ты, господь, его избрал!
Настаньте ж, дни молчания и муки! Прости, мой дар! Ложись на гусли, прах! А вы, в груди взлелеянные звуки, Замрите все на трепетных устах!
Спустися, ночь, на горестного брата И тьмой его от солнца отлучи! Померкните, затмитесь без возврата, Моих псалмов звенящие лучи!
Погибни, жизнь! Погасни, огнь алтарный! Уймись во мне, взволнованная кровь! Свети лишь ты, небесная любовь, В моей ночи звездою лучезарной!»
.
Запрет на поэтическое творчество инок-наставник Иоанна в поэте А.К. Толстого расценивает как способ отречения от мира («дух праздности и прелесть песнопенья», «мечты житейские»), смерть для всего мирского, что в целом соответствует принципам иноческого жития. Однако, как справедливо полагает Д.Б. Терешкина, «запрещение старца-наставника Иоанну заниматься поэтическим творчеством стало для Иоанна отлучением от общения с Богом, епитимьей без греха, пресечением канала связи с Господом, что ввергло Иоанна в состояние тяжкого раздумья и великой скорби, хотя, по смирению, он и повиновался своему духовному отцу» . Тем не менее, несмотря на душевное волнение, литературный Иоанн принимает испытание как должное и как благо, ибо верит, что по воле своего наставника через отречение от поэтического дара сможет постичь Бога:
О мой Господь! Прости последний стон, Последний сердца страждущего ропот! Единый миг – замрёт и этот шёпот, И встану я, тобою возрождён! .
Смирение является частью натуры житийного Иоанна, лишенного гордыни, несмотря на великую ученость, поэтому он довольно успешно выполняет требования наставника. В частности, продает корзины в Дамаске по цене значительно выше той, которую просят на рынке. Данный эпизод Жития, кстати, А.К. Толстым не был использован в поэме. Однако подавление дара «словесности» дается агиографическому герою с большим трудом. Особенно в том случае, если ситуация оказывается связана еще и с необходимостью проявления милосердия. Именно так трактуется в Житии нарушение Иоанном заповеди наставника, когда он, отвечая на просьбу инока в Лавре, составляет надгробные тропари. Обращает на себя внимание, какие аргументы убедили святого «отворить уста»: «вскую не помилуеши скорбную душу, не по-даси малыя некоторые цельбы великимъ сердеч-нымъ болезнямъ» , – говорит опечаленный смертью брата инок. В поэме А.К. Толстого этот мотив воспроизводится в точности:
Паки ж отказ получив: «Иоанне! – сказал черноризец, –
Если бы был ты телесным врачом, а я б от недуга
Так умирал, как теперь умираю от горя и скорби,
Ты ли бы в помощи мне отказал? И не дашь ли ответа
Господу Богу о мне, если ныне умру безутешен?» .
Милосердие и жалость в поэме оказываются также одними из побудительных мотивов для нарушения запрета на творчество:
Собственной полон печали, певец дал жалости место;
Чёрною тучей тогда на него низошло вдохновенье,
Образы мрачной явились толпой, и в воздухе звуки
Стали надгробное мерно гласить над усопшим рыданье .
В Житии, оправдываясь перед наставником, заставшим его за пением новонаписанных тропарей, Иоанн говорить, что его склонили к нарушению обета «слезы брата»: «Иоаннъ же вину пения своего сказуя, и еже убежденъ слезами братними написа, показуя, прощения про-сяше, ницъ на землю падши…» . В по-
эме мотивация несколько сложнее: А.К. Толстой подчеркивает боговдохновенность творчества. Иоанну Дамаскину образы и звуки «являются» потому, что «низошло вдохновенье», и он не может этому противиться:
Во мне звучал немолчный глас, В неодолимой сердца муке Невольно вырвалися звуки, Невольно песня полилась! .
Обуздать творческое начало не может никакая сила, никакие запреты. Причем, по мысли А.К. Толстого, свобода творчества исходит именно из божественного начала:
Над вольной мыслью богу неугодны Насилие и гнет:
Она, в душе рожденная свободно, В оковах не умрет! .
Нарушение запрета влечет за собой суровое наказание: вначале наставник изгоняет Иоанна из своей кельи, что заставляет его глубоко страдать, но затем, склонившись на мольбы братии, старец накладывает на святого урок, заключающийся в уборке монастырских нечистот. В Житии насельники монастыря смущены жестоким решением старца, однако агиографический герой смиренно и радостно принимается за работу, что приводит инока-наставника в умиление. В поэме А.К. Толстого черная работа, заменившая «позорное изгнанье», расценивается как унижение, сравнимое с муками Христа. Однако Иоанн так же, как и в Житии, радостно и смиренно исполняет «неслыханный устав»:
Сменила радость горькую кручину: Без ропота лопату в руки взяв, Певец Христа не мыслит о пощаде, Но униженье терпит Бога ради .
Разрешение от обета творческого молчания и в Житии, и в поэме происходит в результате чудесного знамения, которое также выполняет функцию «благовествования». Во сне наставнику является Богоматерь, которая воспрещает старцу испытывать святого: «Вскую за-градилъ еси источникъ, сладкую и изобилную воду источать могущии, воду лучшую, паче ис-текшия от камене в пустыни…» . Запрет на использование поэтического дара пресекает возможность того служения Господу, которое было предопределено Иоанну в первом «эпизоде благовествования», поэтому понадобилось вмешательство высших сил для восстановления
истинного хода событий. Более того, в речи Богоматери заключена и дальнейшая «жизненная программа» Иоанна: «… и вся церкви Иеруса-лимския, яко отроковици и тимпанствующия сотворить, да поютъ Господу, возвещающе смерть и воскресение Христово, той догматы веры православно напишетъ и обличить еретическая развращения, сердце его отрыгнетъ слово благо и изречетъ дело царева пречуднейшая» . Наставник, раскаявшийся в своей грубости и неведении, разрешает Иоанна от обета творческого молчания. Закономерно в Житии затем следует часть, в которой описываются книжные занятия героя, перечисляются некоторые его богословские труды.
Вопреки суждению Э. Лауда о том, что А.К. Толстой лишил свое сочинение элементов чудесного, которые весьма важны для агиографической традиции , в поэме воспроизводится явление Богородицы старцу-наставнику. Этот эпизод является ключевым для развития сюжета, поскольку только посредством вмешательства высших сил может быть разрешен конфликт между учителем и учеником. Правда, в речи Богородицы остается лишь первая часть читаемого в Житии обращения к старцу, представляющая собой характеристику поэтической манеры Иоанна:
Почто ж ты, старец, заградил
Нещадно тот источник сильный,
Который мир бы напоил
Водой целебной и обильной? .
Перечисление предопределенных свыше будущих деяний святого на поприще догматического богословия и гимнографии в поэме отсутствует. Соответственно и завершается поэма лирическим гимном, воспевающим свободное творческое служение певца. И это не случайно, поскольку отмена обета и возвращение к свободному использованию творческого дара воспринимается как возрождение поэта к истинной жизни во Христе.
Заключение. Таким образом, сюжетной основой для поэмы А.К. Толстого «Иоанн Дамас-кин», несомненно, является Житие Иоанна Да-маскина в редакции Димитрия Ростовского. Использовав для своего сочинения эпизод, рассказывающий об уроке творческого молчания, наложенном на святого в монастыре во время послушничества, поэт в целом точно и полно воспроизвел все элементы повествования, дополнив конфликтным противостоянием наставника и ученика, а также усилив мотивы духовных испытаний поэта.
Список литературы
1. Антонова М.В. Сюжетные топосы в агиографии. Постановка вопроса // Вестник Брянского государственного университета. 2013. № 2. С. 172-175.
2. Библиографические материалы, собранные Андреем Поповым. Описание сборника русского письма конца XII века // Чтения в Императорском Обществе истории и древностей Российских при Московском университете, кн.1. М., 1879.
3. Житие Иоанна Дамаскина // Великие Минеи Четии, собранные митрополитом Макарием. Декабрь. Дни 1-5. (Памятники Славяно-русской письменности, изданные Археографической комиссией). М., 1901.
4. Житие Иоанна Дамаскина // Димитрий Ростовский, свт. Жития святых. Книга вторая. Декабрь, январь, февраль. Киево-Печерская лавра, 1764. . Сканирование и создание электронного ресурса: СПб.: Аксион-Эстин, 2009. С.63.
5. Иванова К. Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica. София, 2008.
6. Иоанн Дамаскин // Православная энциклопедия. Электронная версия. Т.24. С. 27-66. . URL: Дата посещение: 15.08.2017.
7. Лауд Э., свящ. «Иоанн Дамаскин» Алексея Толстого // Православие. RU. . 2004. URL: Дата посещение: 15.08.2017.
8. Николенкова Н.В. Успенский сборник XII века: к вопросу о характере состава // Образовательный портал «Слово». . URL: Дата посещение: 15.08.2017.
9. Сергий, арх. Полный месяцеслов Востока. Т.1.Восточная агиология. Владимир, 1901; репринт: М., 1997.
10. Терешкина Д.Б. «Четьи-Минеи» и русская словесность нового времени. Диссертация на соискание степени доктора филологических наук. Великий Новгород, 2015.
11. Толстой А.К. Иоанн Дамаскин // Толстой А.К. Собрание сочинений: в 4-х томах. Т.1. М., 1969. С. 486-504.
12. Толстой А.К. Письма // Толстой А.К. Собрание сочинений: в 4-х томах. Т.4. М. 1980.
13. Щепкина М.В. О происхождении Успенского сборника // Древнерусское искусство. Рукописная книга. Сб.1. М.,1972.
14. Ямпольский И. Примечания // Толстой А.К. Собрание сочинений: в 4-х томах. Т.1. М., 1969. С.601-663.
THE LIFE OF THE SAINT JOHN DAMASCENE AS THE BASIS OF THE POEM BY A.K. TOLSTOY “IOANN DAMASKHIN”
This article deals with the problem of identifying the source of the poem by A. K. Tolstoy “Ioann Damaskhin”, as well as relatively contrastive analysis of the text of the poem and the Life of the Saint John Damascene, with the goal to define the essence of creative processing of the plot. The article proves that the source of the story of the poem by A. K. Tolstoy ” Ioann Damaskhin ” is the Life of Saint John Damascene in the wording of Dimitry Rostovsky, which was well known to contemporaries of the poet in numerous printed publications. Challenged the approval of the E. Loud the acquaintance of the poet with the Greek version of the Life. Comparison of hagiographic episodes, used by A. K. Tolstoy, and the text of the poem. Noted the author’s personality in some detail and interpretation of events. The problem of poetic gift and the right to its use is Central in the Life of Saint John Damascene, and in the poem by A. K. Tolstoy. The Life of Saint John Damascene held two rounds of tests – physical and spiritual. In the poem by A. K. Tolstoy, as you know, only appeals to the narrative of the initial stage of the life of Saint John Damascene in the monastery. In general A. K. Tolstoy follows the plot of the episode about the creative silence of Saint John Damascene at the same time introduces conflict confrontation between student and mentor, and strengthens the motives of the spiritual trials of the poet.
Keywords: the Life of Saint John Damascene, Velikije Minei Chetii, Dimitry Rostovsky, A. K. Tolstoy’s poem “Ioann Damaskhin”, plot, story episode.
References
1. Antonova, M.V. (2013) Suzetnyje toposy v agiografii. Postanovka voprosa . Vestnik Brjanskogo gosudarstvennogo universiteta , 2, 172-175.
2. Bibliograficheskie materialyi, sobrannyie Andreem Popovyim (1879). Opisanie sbornika russ-kogo pisma kontsa XII veka .Chteniya v Imperatorskom Obschestve istorii i
drevnostey Rossiyskih pri Moskovskom universitete, kn.1. . Moscow.
3. Zhitie Ioanna Damaskina (1901). Velikie Minei Chetii, sobrannyie mitropolitom Makariem. Dekabr. Dni 1-5. (Pamyatniki Slavyano-russkoy pismennosti, iz-dannyie Arheograficheskoy komissiey) . Moscow.
4. Zhitie Ioanna Damaskina (1764). Dimitriy Rostovskiy, svt. Zhitiya svyatyih. Kniga vtoraya. Dekabr, yanvar, fevral . Kiev-Pechersk Lavra. (Skanirovanie i sozdanie elektronnogo resursa: SPb.: Aksion-Estin, 2009 ).
5. Ivanova, K. (2008). Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica. Sofia.
6. Ioann Damaskin // Pravoslavnaya entsiklopediya . Vol. 24, 27-66. Retrieved 15 August, 2017 from:
7. Laud Andrew, priest (2004). «Ioann Damaskin» Alekseya Tolstogo // Pravoslavie. RU Retrieved 15 August, 2017 from:
8. Nikolenkova, N.V. Uspenskiy sbornik XII veka: k voprosu o haraktere sostava . Obrazovatelnyiy portal «Slovo» . Retrieved 15 August, 2017 from:
9. Sergius, Archbishop (1901). Polnyiy mesyatseslov Vostoka. T.1.Vostochnaya agiologiya . Vladimir (reprint: Moscow 1997)
10. Tereshkina, D.B. (2015). «Cheti-Minei» i russkaya slovesnost novogo vremeni: diss. … doktora filol. nauk. Velikiy Novgorod, 430 s.
11. Tolstoy, A. K. (1969). Ioann Damaskin . Sobranie sochineniy: v 4-h tomah .Vol.1. Moscow: “Pravda”, 486-504.
12. Tolstoy, A. K. (1980). Pis’ma . Sobranie sochineniy: v 4-h tomah . Vol.4. Moscow: “Pravda”.
13. Schepkina, M.V. (1972). O proishozhdenii Uspenskogo sbornika . Drevnerusskoe iskusstvo. Rukopisnaya kniga . Moscow.
14. Yampolskiy, I.(1969). Primechaniya . Tolstoy A.K. Sobranie sochineniy: v 4-h tomah . Vol.1. Moscow : “Pravda”, 601-663.
Об авторе
Антонова Мария Владимировна – доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой истории русской литературы XI-XIX вв., Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева (Россия), E-mail: [email protected]
Antonova Maria Vladimirovna – Doctor of Philology, Professor, Head of the Department of history of Russian literature of XI-XIX centuries, Orel State University named after I.S. Turgenev (Russia), E-mail: [email protected]