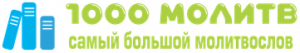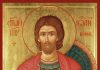Детально: аще забуду тебе иерусалиме - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.
Давиду Иеремием |
Давида, через Иеремию. |
|
1 На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом, внегда помянути нам Сиона. |
1 У рек Вавилонских там мы сели и заплакали, когда вспомнилось нам о Сионе. |
|
2 На вербиих посреде eго обесихом органы наша. |
2 На ивах посреди него повесили мы органы наши, |
|
3 Яко тамо вопросиша ны пленшии нас о словесех песней и ведшии нас о пении: воспойте нам от песней Сионских. |
3 ибо там спросили нас пленившие нас о словах песен и уведшие нас – о пении: “Пропойте нам из песен Сионских”. |
|
4 Како воспоем песнь Господню на земли чуждей? |
4 Как споём мы песнь Господню на земле чужой? |
|
5 Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди десница моя. |
5 Если забуду тебя, Иерусалим, пусть забыта будет десница моя! |
|
6 Прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселия моего. |
6 Пусть прилипнет язык мой к гортани моей, если не вспомню тебя, если не поставлю Иерусалима в самом начале веселья моего. |
|
7 Помяни, Господи, сыны Едомския, в день Иерусалимль глаголющыя: истощайте, истощайте до оснований eго. |
7 Вспомни, Господи, сынов Эдома в день Иерусалима, говорящих: “Разоряйте, разоряйте до оснований его”. |
|
8 Дщи Вавилоня окаянная, блажен иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала еси нам. |
8 Дочь Вавилона злосчастная, блажен, кто воздаст тебе возмездие твоё, которым ты воздала нам; |
|
9 Блажен иже имет и разбиет младенцы твоя о камень. |
9 блажен, кто схватит и разобьёт младенцев твоих о камень! |
|
Слава: |
Слава: |
На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом, внегда помянути нам Сиона. На вербиих посреде его обесихом органы нашя. Яко тамо вопросиша ны пленшии нас о словесех песней и ведшии нас о пении: воспойте нам от песней Сионских. Како воспоем песнь Господню на земли чуждей? Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди десница моя. Прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселия моего. Помяни, Господи, сыны Едомския, в день Иерусалимль глаголющыя: истощайте, истощайте до оснований его. Дщи Вавилоня окаянная, блажен иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала еси нам. Блажен иже имет и разбиет младенцы Твоя о камень.
Слава:

Сто тридцать шестой псалом — 136-й псалом из книги Псалтырь (в масоретской нумерации — 137-й). Известен по первым словам «Super flumina Babylonis» (лат.) и «На реках вавилонских» (церк.-слав.). Один из самых известных библейских псалмов, получивший вторую жизнь в многочисленных произведениях художественной культуры.
Авторство и время написания
В еврейской Библии псалом не имеет надписания имени автора, в латинской и греческой Библии стоит имя Давида, в славянской Библии надписан так: Давиду Иеремием. Архиепископ Ириней (Клементьевский) считал, что псалом написан Давидом, предвидевшим пленение Вавилонское, которое пророк Иеремия после проповедывал и предсказал. Однако современные ученые считают, что надписание «Давиду Иеремием» указывает на сборник псалмов с именем Давида, имевшийся у пророка Иеремии и дополнявшийся после него и через него сохранившийся и переданный собирателям псалмов. Блаженный Феодорит Кирский отмечал, что пророк Иеремия не был в Вавилоне и поэтому не мог написать этот псалом и также считал, что псалом написан иудеями, возвратившимися из вавилонского плена. Также по мнению авторов Толковой Библии А. П. Лопухина и профессору П. А. Юнгерову, псалом написан после возвращения из вавилонского плена. Согласно протоиерею Григорию Разумовскому, псалом написан в Вавилоне кем-либо из пленных иудеев, а имя Иеремии поставлено потому, что он предсказывал о плене. Также профессор и библеист Андрей Десницкий считает, этот псалом не мог написать пророк Давид, однако он является богодухновенным.
Содержание псалма
Псалом 136 «На реках вавилонских» представляет собой песню еврейских изгнанников, томящихся в вавилонском плену после падения Иерусалима и разрушения Первого Храма. Первая часть псалма (ст. 1-6) выражает скорбь евреев о потерянной родине, вторая (ст. 7-9) — надежду на возмездие захватчикам и угнетателям.
«Реки вавилонские», упоминаемые в тексте, — это Евфрат, Тигр и, возможно, Ховар (упоминается у Иезекииля), на пустынных берегах которых предавались скорби евреи, вспоминая Иерусалимский храм и совершавшиеся там богослужения. По толкованию Феодорита Киррского вавилоняне требовали от евреев исполнения священных песен не для того, чтобы научиться почитанию истинного Бога, но для того, чтобы посмеяться над пленёнными. Чтобы не давать повода для насмешек, а также потому, что священные песни нельзя было исполнять вне Храма, евреи отказывались «петь песнь Господню на земле чужой». Десница, которая забудет того, кто подвергнет забвению Иерусалим, — это, по толкованию Афанасия Великого и блаженного Феодорита, помощь свыше от Бога; тот, кто забудет Иерусалим и, соответственно, завет между Богом и Его народом, сам будет забыт Богом.
В новозаветном контексте псалом 136 понимается как скорбь христианина, из-за своих грехов и страстей удалённого от Бога, ставшего пленником своих страстей и пороков. В святоотеческом и богословском понимании трудные для истолкования последние стихи псалма, содержащие молитву о возмездии сынам Едомовым, дочери Вавилона и её младенцам, обретают свой смысл — младенцами Вавилона являются греховные пожелания, которые должны быть безжалостно искоренены в зародыше. Буквальное истолкование этих стихов в православной традиции также встречается: по св. Иоанну Златоусту, таким образом пророк изображает страстную, недостойную христианина, мстительность пленных, будучи сам далёким от неё, а по блаж. Феодориту, стих можно понимать не как молитву, а как пророчество о завоевателях.
Псалом 136 в иудаизме
- В некоторых еврейских общинах читают Псалом 137 перед Биркат Ха-мазон (благословение после еды) в те дни, когда Псалом 126 (Шир ха-Маалот) не читается.
- Псалом обычно читается на Девятое Ава а некоторыми — в течение девяти дней, предшествующих девятому ава, в память разрушения Иерусалимских Храмов.
- Стих 7 есть в повторении Амиды на Рош Ха-Шана
- Стихи 5 и 6 произносит жених в конце еврейской свадебной церемонии.
Псалом 136 в богослужении Православной церкви
Для удобства богослужебного использования Псалтирь разделена на 20 кафизм. Псалом 136 входит в состав 19-й кафизмы и в обычное время года читается в её составе, еженедельно на утрене пятницы. В шесть недель Великого поста эта кафизма читается на утрене среды и третьем часе пятницы.
Особую роль псалом 136 приобрёл в богослужениях, готовящих верных к Великому посту. На утренях трёх приготовительных воскресений (неделя о блудном сыне, неделя о Страшном суде (мясопустная) и Прощёное воскресенье (неделя сыропустная)) этот псалом поётся с «аллилуйей красной» до чтения Евангелия. Этот порядок отражен в богослужебных указаниях на официальном сайте Московского патриархата: «К двум полиелейным псалмам присоединяется псалом 136-й».
Псалом 136 в культуре
В академической музыке
Стихи Пс. 136 использовали многие композиторы. Они встречаются, например,
- в мотете «Super flumina Babylonis» Дж. П. Палестрины
- в вокальном цикле А. Дворжака «Библейские песни» (op. 99 № 7).
Парафразом Пс. 136 считается хор «Va, pensiero» из оперы «Набукко» Дж. Верди.
В эстрадной музыке
- «Rivers of Babylon» — песня группы «Boney M» (1978), кавер-версия песни ямайского вокального трио «The Melodians».
- «Babylon» — песня Дона Маклина на текст первой строфы псалма, исполняемая в стиле канон в сопровождении банджо.
- В различных вариантах песню исполняли Олег Погудин, Елена Камбурова и Юлий Ким.
В кино
- «По рекам вавилонским» — рабочее название фильма российского исторического художественного фильма «Поп» режиссёра Владимира Хотиненко (2010). Колокольным перезвоном «По рекам вавилонским» заканчивается этот фильм, перебивая «Rivers of Babylon» группы «Boney M».
В литературе
- На псалме основана поэма Луиса Камоэнса «Sôbolos rios que vão por Babilônia».
- В главе 53-й романа Жорж Санд «Лелия» главная героиня после своего монашеского пострижения поёт этот псалом вместо положенной по чину первой молитвы монахини.
- Название романа Уильяма Фолкнера «Если я забуду тебя, Иерусалим» (1939) — точная цитата Пс. 136:5.
- «By Grand Central Station I Sat Down and Wept» — поэма в прозе Элизабет Смарт (1945).
- У реки Рио-Пьедра села я и заплакала… — роман Паоло Коэльо (1994).
- Принц Корвин в романе Роджера Желязны «Ружья Авалона» цитирует балладу, текст которой — смесь немного видоизмененного 136-го псалма и известной детской песенки о Лондоне: «Давным-давно читал мне стихи один странствующий бард, и я их запомнил: „На берегу реки благословенной сидели мы, и, вспомнив Авалон, заплакали. В руках остались сломанные шпаги, щиты развесили мы на деревьях. Разрушены серебряные башни, утоплены в потоках крови. Так сколько миль до Авалона? И все, и ни одной. Разрушены серебряные башни.“»
- В десятой книге романа Фёдора Достоевского «Братья Карамазовы» капитан Снегирёв цитирует псалом: «— Не хочу хорошего мальчика! не хочу другого мальчика! — прошептал он диким шёпотом, скрежеща зубами, — аще забуду тебе, Иерусалиме, да прильпнет…» Там же Алексей Карамазов поясняет: «Это из Библии: „Аще забуду тебе, Иерусалиме“, — то есть если забуду всё, что есть самого у меня драгоценного, если променяю на что, то да поразит…»
- Название повести Артура Кларка «И если я, земля, тебя забуду…» (англ. «If I Forget Thee, Oh Earth»).
Ссылки
- Верди «Va, pensiero» на youtube.com
- Дон Маклин, «Babylon» на youtube.com
Примечания
Вечер, сумрачная питерская коммуналка, 1975 год, я сижу за огромным, занимающим полкомнаты столом с резными краями и читаю «Ленинградскую правду»; вдруг — перебой сердца — внизу полосы крохотный прямоугольник в черной рамке: «Умерла Ольга Федоровна Берггольц». Ни слова больше. Я зову: «Мама!»; моя мама — блокадница — робкая женщина, которой требуется мобилизовать все свое гражданское мужество, чтобы подойти к окошку и заполнить какую-нибудь квитанцию, с несвойственной решимостью берет телефонный справочник и набирает номер Лазаря Ефимовича Маграчева, известного всем ленинградцам журналиста, работавшего вместе с Ольгой Федоровной на радио. Не так давно мы простились с ним… «Не знаю, все скрывают», — не сдерживая раздражения перед незнакомым человеком, отвечает Лазарь Ефимович. Однако же обещает позвонить, как только узнает…
Сумрачная улица, я стою напротив Дома писателей, не смея присоединиться к жалкой горстке людей, выносящих гроб. Мокрый снег. В платок кутается Мария Федоровна. Ей отказали, родным отказали — нам всем отказали — не разрешили похоронить Музу блокадного Города на Пискаревском кладбище.
«Скопления не хотели. Романовский обком наконец-то мог отыграться…», — пишет в своих мемуарах Даниил Гранин. Остановили у Пискаревки на минуту, не больше, подгоняемые «подкованным» водителем, напротив памятника со стихами, выбитыми как на каменных скрижалях: «Никто не забыт, и ничто не забыто» — словами, которые из-за частого употребления потеряли остроту, а из-за паутины лжи и патоки — смысл.
«Как-то будут хоронить его наши держиморды? Поди, не дадут народу проститься с ним, не поместят даже некролога», — пишет Ольга Федоровна в дневнике о смерти Зощенко — словно пророчески описывает свои похороны.
♦♦

Судьба дневников, как человеческая судьба, практически параллельна жизни поэта. Скрывала, закапывала, прятала на даче, прибивала к обратной стороне скамейки огромным ржавым гвоздем; их изымали при обысках, зачитывали на допросах и возвращали, словно арестантов из застенков. Наконец, дневники увидели свет. Листаем их, и перед нами встает образ страдалицы и героини, возвращающейся из оболганного небытия.
Дневник Ольга Федоровна ведет чуть ли не с детства, с несвойственной тому времени искренностью, словно нет никаких преград, словно между поэтом и бумагой нет даже кожи. Дневник сопровождает всю ее жизнь — бодрую комсомольскую юность, краткий период соблазна советской утопией, медленный процесс осознания разрыва между жизнью народа и официальной пропагандой; вместе с раздроблением судеб друзей, гибелью в лагерях первого мужа, Бориса Корнилова, приходит понимание бесчеловечности, применяемой для внедрения «самой справедливой теории» в практику.
Долго ей еще будет казаться, что все-таки есть сияющая мечта, идеал, который поруган этими «страшными», еще долго будет она писать вполне советские стишки. Вместе со вторым мужем, Николаем Молчановым, будет бороться с басмачами, ее покровительственно похлопает по плечу Секретарь Союза писателей Фадеев.
Девочка из религиозной семьи, воспитанная бабушкой, мамой — Ольга Федоровна не расставалась с иконой Ангела Благого Молчания до своего последнего дня. Самое главное не исчезает — «молитва как серебряное ведерко» всегда с ней — но ее уже отучили искать силы в Боге, она ищет в себе; до полного испепеления.
«Покалечена, сильно покалечена, но, кажется, не раздавлена…»
Первый арест. 1938. Второй арест. 1939. Задается вопросом, побежденная или победитель — ?, раздавлена или «мучима химерами» — ?
«Тупость проходит понемногу-понемногу».
Она еще мечтает о восстановлении чести «честных коммунистов», на полном серьезе рассуждает, не написать ли Сталину.
В дневниках видна мучительная работа души, видно, как исчезает советская шелуха, коррозируется мечта об идеале, и «все глубже и глубже опускается серебряное ведерко».
«Скоро 6 месяцев, как я на воле, а нет дня, нет ночи, чтобы я не думала о тюрьме, чтобы я не видела ее во сне»… В дневнике появляются аресты, доносы, оговоры, издевательства…
В какой-то момент духота, страх сгущаются так, что уже нет разницы между повседневной жизнью и тюрьмой. И палачи, и жертвы перетекают из камер в залы Союза писателей и обратно, и окружают их все те же подлость и ложь.
«Загаженные, измученные дневники».
Уже в 1940 году она пишет дневник, осознавая, что его будет читать следователь.
Уже в 1940-м точно отделяет себя от этих «подлецов», «лжецов».
Из тюрьмы вышла «со смутной, зыбкой, но страстной надеждой, что «все объяснят», что то чудовищное преступление перед народом, которое было совершено в 35–38 гг., будет хоть как-то объяснено… В июле тридцать девятого я еще чего-то ждала, теперь чувствую, что ждать больше нечего — от государства».
«Я задыхаюсь в том всеобволакивающем, душном тумане лицемерия и лжи, который царит в нашей жизни, и это-то и называют социализмом!!!», — 1941 год.
Пробитая гвоздем страница дневника Ольги Берггольц с записью от 26 мая 1949 года.
♦♦
Помню замершее лицо мамы, когда я пришла из школы в красном галстуке: «Мама, я крещеная?». «Да». «Вот, наверное, поэтому я так часто болею». Мамино молчание — что она могла сказать? Аккуратно, осторожно, книгами, стихами, примерами мама противостояла советской пропаганде и где-то к моим 14 победила окончательно. Мы жили в военном гарнизоне. Стандартной советской школе не было никакой альтернативы — интеллигентного круга, который я нашла потом, когда мы вернулись в Ленинград. Остро помню мысль — почему я вижу то, что не видят другие, почему вся эта фальшь мне противна, а они считают ее нормой?
Кругом ликуют: «Белое!», а ты видишь, что чернее некуда, но обязан ликовать со всеми. Кошмар раздвоения.
♦♦
В ее жизни вариантов делалось все меньше и меньше. «Предлагают написать очерк о днях финской войны… Нет, не буду! … правды — жестокой, нужной, прекрасной — об этом все равно нельзя написать…. И «не принимала» я эту войну»…
Путаница закончилась, во всей полноте она осознает раздвоенность — есть государственная машина, цели которой уже не видны и непонятны, и есть жизнь. Нам, жителям брежневского застоя, уже не представить боли разочарования в высоких идеалах. Мы уже все знали про эти «зияющие высоты».
«Сегодня Коля закопает эти мои дневники… Если выживу — пригодятся, чтоб написать всю правду. О беспредельной вере в теорию, о жертвах во имя ее осуществления… О том, как политика потом сожрала теорию, прикрываясь ее же знаменами, как шли годы немыслимой, удушающей лжи»…
Начинается война.
«Позор в общем и в частности. На рабочих окраинах некуда прятаться от бомб, некуда. Это называлось — «Мы готовы к войне».
«Ничтожность и никчемность личных усилий — вот что еще дополнительно деморализует…. Собственно, меня не немцы угнетают, а наша собственная растерянность, неорганизованность, наша родная срамота…». «Мне говорят, что я должна писать стихи… Хорошо… — буду».
«Я не знаю, чего во мне больше — ненависти к немцам или раздражения, бешеного, щемящего… к нашему правительству. Этак обосраться! Почти вся Украина у немцев — наша сталь, наш уголь, наши люди, люди, люди!»
«Зашла к Ахматовой, она живет у дворника в подвале… Анна Ахматова, муза Плача, гордость русской поэзии… Она почти голодает, больная, испуганная. А товарищ Шумилов сидит в Смольном в бронированном удобном бомбоубежище и занимается тем, что даже сейчас… не дает людям вымолвить живого, нужного, как хлеб, слова… А я должна писать для Европы, как героически обороняется Ленинград, мировой центр культуры».
К войне она потеряла троих детей. Двое умерли. «Степку» сапогами во время допросов выбивают из живота. Пропадает где-то в лагерях ее первый муж, в первый год войны от дистрофии умирает второй. Отца, военного врача, который всю свою трудовую биографию, начиная с Первой мировой войны, лечил раненых, арестовывают и высылают из города. По дороге на всех пересылках он организовывает лазареты. Лечит контуженных, раненых, дистрофиков, варит кисельки для блокадников…
1942 год. Первый раз в ее дневниках звучит псалом. «Аще забуду тебя, Иерусалиме»…
Работает на радио. Над закостеневшим Городом звучат ставшие хрестоматийными строки: «Я говорю с тобой под свист снарядов,/ Угрюмым заревом озарена,/ Я говорю с тобой из Ленинграда,/ Страна моя, печальная страна»… В историю страны входят 900 дней, черная тарелка радио, стук метронома и «125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам».
Голод, мороз, смерть, страх, позор — и над всем этим Голос Ольги Берггольц — средоточие не жизни даже, а бытия, того, что станет духом ленинградской трагедии — смешение человечности, веры, надменности. Той надменности, которая до сих пор живет у нас в генах и отзывается камертоном в геометрии площадей; той самой надменности, за которую спустя несколько лет будут ломать ленинградскую интеллигенцию, превращая великий город в населенный пункт с областной судьбой…
Анна Ахматова и Ольга Берггольц. 1947 год
♦♦
Сумрачная, пустая комната, маленькая девочка сидит в ней, закутавшись в какие-то тряпки: умерли все. Низкий, гудящий звук летящего немецкого самолета. «От советского информбюро», — в сводке мрачно приподнятые советские интонации дикторов, и вдруг голос Берггольц, мягкий, женский, человеческий. Маленькая замерзшая девочка чувствует, что не одна, что жива. Не выживи она, не читали бы вы сейчас этих строк…
♦♦
Как судьба вывела Ольгу Берггольц на такую высоту!
Из дневников стал известен эпизод о двухмесячной поездке в Москву. Только одно держит ее в столице — попытки рассказать правду о том, что происходит в блокадном Ленинграде. Ходит по комитетам, пытается что-то доказать. «Я просила отправить посылку с продовольствием на наш Радиокомитет. Холеный чиновник… говорил… «ленинградцы сами возражают против этих посылок» (это Жданов — «ленинградцы»!), что «государство знает, кому помогать» и т.п. муру. О, Иудушки Головлевы!»
Она возвращается, потому что там бытие, а здесь ложь. Идеальные увлечения кончились, личная судьба разбита. Единственным смыслом становится Город.
Хоронит одного за другим. Только работа в Радиокомитете позволяет ей сохранять себя как человеческое существо, поддержка друзей и нового мужа, Георгия Макагоненко, тоже сотрудника Радиокомитета. «И лег в ногах, окоченевший сам,/ И ничего не называл любовью»…
«Молитва — серебряное ведерко, которое опускает человек в свою глубину».
В 1942-м возвращается то, что она пыталась заместить верой в утопию. В заклеенных крест-накрест окнах видит «Крест отчаянья» и бормочет: «Да воскреснет Бог!».
«Твой час настал, — молись».
Блокада в ее стихах становится образом русской Голгофы.
Вот женщина стоит с доской в объятьях;
угрюмо сомкнуты ее уста,
доска в гвоздях — как будто часть распятья,
большой обломок русского креста.
Еще до окончания войны пишет: «Живу двойственно: вдруг с ужасом, тоской, отчаяньем — слушая радио или читая газеты — понимаю, какая ложь и кошмар все, что происходит, понимаю это сердцем, вижу, что и после войны ничего не изменится».
Заканчивается война, и все продолжается так же. Эта банда испугана тем, что народ вдохнул свежего воздуха. Сталин боится боевых офицеров, чует в них потенциальных декабристов, повидавших западной жизни, отправляет в лагеря. Люди, возвращающиеся из плена, оккупации, получают клеймо пособников. Появляется слово «реэвакуация». Не пускают тех, кто был эвакуирован из города, на место ленинградцев завозят жителей новгородской, псковской областей.
Надо было доламывать тех, кого не доломали до этого — люди, которые могли противостоять одному злу, возможно, могли противостоять и другому. Подлая власть нуждалась в подлецах.
Расправа над Зощенко, Ахматовой, травля Шварца, Ленинградское дело.
1949 год. В городе идут аресты: вначале — партийные работники, но никто не может быть уверен, что и его не «привяжут» к этому делу. Ольгу Федоровну начинают травить. Упрекают в упадничестве, индивидуализме, в том, что допускает крупные ошибки, восхваляя «безыдейно-этическое» творчество Ахматовой, продолжает воспевать тему страдания и ужасов перенесенной блокады.
«Не дам забыть, как падал ленинградец / на желтый снег пустынных площадей».
Друзья из Публичной библиотеки предупреждают, что ищут компромат в ее книге «Говорит Ленинград».
Спасаются с мужем бегством. В каждой машине видят гепеушников, которые, как бесы, мчатся за ними по лесу — то ли мерещится, то ли нет. Прячут дневник на даче.
«Мы ехали, и даже луна гналась за нами, как гепеушник».
Почему не достигли, не дотянулись руки? Причин было несколько: с литературной сцены оттеснили, новые стихи не печатали, она спивалась. Создали удобный образ советской поэтессы, писавшей военные стихи и комсомольские песни — все-таки дотянулись…
«И равнодушны наши книги, и трижды лжива их хвала».
«А, брось, Миша, ну что ты от меня хочешь? Почему ты хочешь, чтобы меня принимали в Кремле?» — «Потому что я не хочу, чтобы ты была на Лубянке», — это говорит ей Михаил Светлов: приспосабливайся, иначе убьют, оскорбят память, вычеркнут из жизни.
Друзья твердят: «Все средства хороши,
Чтобы спасти от злобы и напасти»…
Я даже гибели своей не уступлю
за ваше принудительное счастье…
Всегда находится один, «Сумевший Подняться». Она сумела. Продолжала свидетельствовать. В своей поэзии, в своем дневнике…
Что остается? — Искромсанная судьба, искромсанные судьбы… Из-за уже слегка приоткрытых дверей льется такой поток крови и гноя… еще кто-то хочет, чтобы мы молчали, чтобы в 2010 мы их еще раз оболгали, но уже своим молчанием…
Автограф стихотворения «Отрывок»
♦♦
Последняя просьба, которую пытаются выполнить друзья — чтобы «Ныне отпущаеши» звучало над ней, когда она уже не услышит.
— Ну что вы? Ведь Берггольц коммунист. Она давно отреклась от религии.
♦♦
…Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем,
так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням:
никто не забыт, и ничто не забыто…
Иллюстрации из книги «Ольга. Запретный дневник» предоставлены Издательской группой «Азбука–классика».
Великий Пост, изгнание наше
“На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом, внегда помянути нам Сиона. “
Эти слова великопостного псалма напоминают нам, православным христианам, Новому Израилю, о нашем изгнании. Для русских, исторгнутых со Святой Руси, псалом этот имеет особый смысл; но и для всех православных в равной мере земная жизнь есть изгнание, а Небо – желанное отечество.
Великий Пост установлен для нас Матерью-Церковью как период изгнания, чтобы не ослабла наша память о Сионе, от которого мы уклонились так далеко. Мы заслужили это изгнание, и по грехам нашим остро нуждаемся в нем. Только через скорби изгнания, о коих напоминают нам пост, молитва и покаяние нынешних дней, способны мы сохранить в себе образ Сиона.
“Аще забуду тебе, Иерусалиме. . . “
Бессильные и беспамятные, мы даже в дни Великого Поста живем так, словно Иерусалима никогда не было. Мы влюблены в наш мир, наш Вавилон; мы соблазнены обилием удовольствий “на земли чуждей” и пренебрегаем службами и поучениями Церкви, напоминающими нам об истинном отечестве. Хуже того, мы любим самих наших поработителей – ведь грехи держат нас крепче всякой стражи – и служа им, мы тратим драгоценные дни Поста, когда следует готовиться ко встречи Зари Нового Иерусалима, Воскресения Господа нашего Иисуса Христа.
Еще есть время; нужно только вспомнить, где наш дом, и заплакать о наших грехах, за которые мы изгнаны оттуда. Подумаем над словами Св. Иоанна Лествичника: “Изгнанничество есть отлучение от всего, с тем намерением, чтобы сделать мысль свою неразлучною с Богом. Изгнанник есть любитель и делатель непрестанного плача. ” Изгнанные некогда из Рая, мы не можем иметь надежды на возвращение, не будучи прежде изгнаны из мира.
Этого можно достичь, проводя текущие дни в посте, в молитве, в удалении от мирских дел, в церковных службах, в слезах покаяния, в приготовлении к великому Празднику, завершающему нынешний период изгнания, – и свидетельствуя всем на этой “земли чуждей” о грядущем величайшем Празднике, когда Господь возвратит Свой народ в Новый вечный Иерусалим, из которого уже нет изгнания.
(из книги “Небесный удел”)
Человек наизнанку
ФИЛОСОФИЯ АБСУРДА
Настоящая статья основана на материале незавершенной книги о. Серафима “Царство Божие и Царство Человеческое. “
Нынешний век недаром называют веком абсурда. Поэты и драматурги, живописцы и скульпторы изображают наш мир бессвязным хаосом, а нас самих – бездушными хаотическими частицами. Политика, независимо от направления и оттенка, стала всего лишь ширмой, временно придающей вселенскому развалу жалкое подобие порядка. Борцов за мир и проповедников насилия объединяет абсурдная уверенность, что человечество способно исправить невыносимое положение своими собственными жалкими силами и губительными средствами. Серьезные философы, ученые, государственные и религиозные деятели, либо молчат, прячась за безответственными масками специализации и бюрократии, либо, рассуждая о нашем неустройстве, рекомендуют нам такие убеждения как обветшалый оптимизм “веры в человека”, безнадежный стоицизм, иррационализм слепого поиска, или же просто “убеждения” как таковые, самоубийственную веру “во что бы то ни было”.
Однако искусство, политика и философия суть всего лишь отражения современности; они абсурдны постольку, поскольку абсурдной стала сама жизнь. У всех в памяти самый страшный пример реального абсурда – гитлеровский “новый порядок”, когда свиду вполне нормальный, цивилизованный человек, умелый и тонкий исполнитель музыки Баха (как Гимлер), мог быть в то же время хладнокровным убийцею миллионов, и чередовать инспекции лагерей уничтожения с концертами и художественными выставками. Да и сам Гитлер был воплащенным абсурдом: он взмыл из небытия к мировому господству и канул обратно в небытие за десять с чем-то лет, оставив за собой лишь обломки цивилизации, благодаря одному тому, что он, пустейший из людей, олицетворял пустоту своих современников.
Гитлеровский сюрреализм остался позади, но эпоха абсурда отнюдь не миновала. Мир просто вступил в новую фазу той же самой болезни, до поры не столь бурную. Ясней, чем фашистское евангелие гибели, свидетельствует о нашем нигилизме и растерянности наше новейшее оружие; парализованные невиданным внешним могуществом и внутренним бессилием, мы беспомощны под его грозной сенью. Тем временем неимущие и “угнетенные” всего мира пробуждаются к самосознанию и начинают требовать богатства и власти; имущие же прожигают жизнь в суете, или гибнут от разочарования и скуки, или совершают отчаянные преступления. Кажется, мир раскололся надвое: одни ведут бессмысленную и бесцельную жизнь, не сознавая этого, а другие вполне осознанно идут к безумию и самоубийству.
Нет нужды продолжать список очевидных и типичных примеров. Достаточно сказать, что даже самые вопиющие из них – не более, чем симптомы одной и той же болезни, которая окружает нас на каждом шагу и проникает в самое сердце, если не знать как с нею бороться. Мы живем в эпоху абсурда, когда несовместимые начала сосуществуют бок о бок в пределах одной человеческой души; когда ни в чем не видно смысла; когда исчез цементирующий центр, и мир разваливается по частям. И пусть будни, хоть и в лихорадочной спешке, все же катятся своей чередой, и нам удается жить-поживать как ни в чем не бывало: это возможно лишь потому, что мы не думаем или не хотим задуматься. И недаром – обстановка вокруг не из приятных. Но только тот, кто думает, кто хочет понять подлинный ход вещей под пестрым покровом будней, – только тот способен найти себе хоть какое-то место в этом странном сегодняшнем мире, обнаружить в нем хоть какую-то “норму”.
Но наша эпоха не нормальна; поэты, художники и мыслители современного “авангарда”, несмотря на все их преувеличения и заблуждения, на нелогичность их аргументов, на вычурность их мировоззрения, правы по крайней мере в одном: с нашим миром происходит что-то угрожающее. Таков первый урок философии абсурда.
КАК ПОНЯТЬ АБСУРД
Склонность к абсурду в значительной мере характеризует духовное состояние нашего современника; можно узнать много интересного, если суметь разобраться в абсурде. Но тут мы сталкиваемся с очень серьезной трудностью, не преодолев которую мы не сумеем даже начать разговор. Возможно ли в принципе его понять? Становясь предметом изучения, по самой природе своей, абсурд оказывается легкой добычей небрежности и зауми. В этом повинны не только художники, черпающие в нем вдохновение, но и серьезные исследователи, пытающиеся понять и объяснить его. Создается впечатление, что в большинстве работ о современном “экзистенциализме”, изобразительном и театральном искусстве, разум и логика совершенно отброшены, а критические стандарты подменены неопределенным “сочувствием”, “причастностью” и вне-логическими доводами о “духе времени”, “творческом импульсе” и “осознании”; однако это вовсе не доводы, а в лучшем случае – просто размышления, в худшем же – пустословие. Следуя таким путем, мы, быть может, сумеем лучше “оценить” искусство абсурда, но уж никак не понять его. И действительно, абсурд невозможно понять изнутри, пользуясь его собственными средствами; ведь понимание есть нахождение смысла, а смысл и абсурд несовместимы.
Стало быть, если мы хотим понять абсурд, мы должны выбрать точку зрения вовне, дающую смысл самому “пониманию”. Только так можно пробраться сквозь дымовую завесу, в которой скрывается абсурд, защищаясь от разумного и последовательного наступления собственными контратаками на логику и разум. Короче говоря, нужно открыто исповедовать веру, противоположную абсурдной, и истину, отрицаемую абсурдом в принципе. Ниже мы увидим, как философия абсурда невольно свидетельствует об этой вере и истине, которые, скажем со всей ясностью, открываются нам в христианстве.
Ведь философия абсурда – не новость; она состоит в отрицании, и от начала до конца определяется тем, что именно подлежит отрицанию. Абсурдное возможно лишь по отношению к чему-либо НЕабсурдному; идея о мировой бессмыслице может прийти в голову только тому, кто веровал в смысл бытия, и в ком вера эта не умерла. Философию абсурда нельзя понять в отрыве от ее христианских корней.
Христианство по существу есть высшее согласие, потому, что Господь Бог, в Ком начало и конец всякого творения, устроил всю вселенную, согласовал все ее части и Самого Себя в ней; всякий христианин, хранящий истиную веру, неизменно видит это согласие вокруг себя и в себе самом. Для исповедующего абсурд все распадается на части, включая его собственную сиюминутную философию; для исповедующего христианство все собрано воедино и согласовано, включая и то, что беспорядочно само по себе. Абсурд с его хаосом оказывается элементом более общей и согласованной картины; если бы это было не так, вряд ли стоило бы о нем говорить.
Другое препятствие на подходах к абсурду состоит в неточности некоторых употребляемых нами понятий. Если мы хотим разобраться в вопросе, мы не можем попросту объявить абсурд противоречием и заблуждением: хотя так оно и есть, но этим он далеко не исчерпывается. Серьезный философ конечно не станет рассматривать его претензий на истину: философия абсурда, с какой стороны к ней не подойди, противоречит сама себе. Чтобы утверждать всеобщую бессмысленность, нужно вкладывать какой-то смысл в саму эту фразу, чем отрицается исходное положение; когда говорят “истины нет”, подразумевают истинность этого высказывания, снова себе противореча. Совершенно ясно, что философия абсурда на самом деле никакая не философия; ее тезисы нельзя воспринимать без известной доли воображения и субъективизма. Как мы увидим ниже, она вообще порождена не столько разумом, сколько волей.